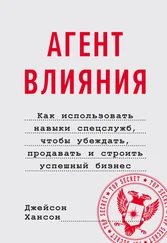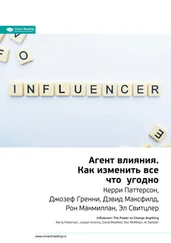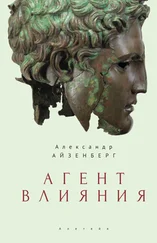— И ты не убил тут же на месте его, чертова сына? — вскрикнул Бульба.
— За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел.
— И ты видел его в самое лицо?
— Ей богу, в самое лицо! Такой славный вояка! Всех взрачней. Дай бог ему здоровья, меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал…
— Что ж он сказал?
— Он сказал… прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: “Янкель!” А я: “Пан Андрий!” — говорю. “Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец — теперь не отец мне, брат — не брат, товарищ — не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!”»
Дальнейшие события общеизвестны: «Я тебя породил, я тебя и убью!». Но давайте вспомним сцену:
«Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. …
— Чем бы не козак был? — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!».

Тут важно не только отношение Тараса Бульбы к сыну-предателю, но и безответность Андрия — он сам прекрасно понимает, что кара постигает его заслуженно. Даже такой мерзкий персонаж и то вызывает больше приязни, чем главный герой «Аватара»…
*****
Как видите — сюжет не нов, но везде подается как трагедия. В «Аватаре» же предательство — это типа «правильный выбор». Назначаешь кого-нибудь «хорошим», и начинаешь убивать плохих своих.
Все просто: раньше требовался безусловный патриотизм: американцы лезли в не свои дела военной силой. Но патриотизм и национализм обоюдоостры: так своих патриотов воспитать можно, но на тех же фильмах и чужие будут воспитываться. Не делать же фильмы «только для своих», надо распространять свое влияние по миру, причем чтобы было коммерчески выгодно.
Поэтому сейчас продвигается глобализм и идет идеологическая борьба против националистов и патриотов. «Нет никакого предательства, если ты за хороших против плохих», при этом нет «безусловно своих», все равны и т.д. А дальше сами думайте, кому такое положение дел выгодно: честным патриотам или богатым глобалистам. Некоторые, возможно, скажут, что такое-де не выгодно и американцам — у них тоже будет меньше патриотов. Верно, но глобализм — он именно глобальный (финансово-банковый), а не американский.
К. Крылов написал статью«Коробка Пандоры: два президента и два сержанта», в которой повитийствовал на тему «написать книжку или снять киношку против своих и за чужих ВСЕРЬЕЗ могут только в Эрефии, которая на этом-то и стоит», а «американская же культура здорова как стадо быков-двухлеток — такой мерзости не породит ни за что». После чего раскрыл тему, что если сор из избы выносить надо, но публично не хочется, то выносить его надо «каким-нибудь хитрым образом». Например, «художественное изображение внутреннего конфликта как внешнего».
«Правильным ходом является изображение представителей “своей” партии как маркированных “чужих”. Якобы чужих, напоминаю — поскольку речь идет о сугубо внутреннем конфликте.
Почему себя любимого нужно изображать в виде чужака? Да потому, что себя полезно отождествлять с новым, а не со старым. Ведь новое приносит то, чего не хватает старому. А символическое изображение “нового” — это “чужое”. “Я из будущего, и у меня есть то, чего вам так недостает” = “я извне и у меня есть то, чего у вас нет”. …
Сам этот риторический ход придуман в эпоху Просвещения. В “Персидских письмах” Монтескье критикует Францию от имени “персиянина”, Вольтер провозглашает свою философию то устами индейца-Гурона, то органами речи космического пришельца Микромегаса. Ну, Свифта с прекрасными гуигнгнмами и мерзкими йеху не поминали только ленивые».
* * *
Ну и далее пишет, что режиссер имел в виду под землянами республиканцев (мол, милитаристы и все такое), а «синие кошки — это Народ Обамы, “дети индиго”, люди Нового Века. С широко открытыми кошачьими глазами, адепты Видения (“я тебя вижу”), Чувствования, Представления».
После длинных пассажей и аллегорий на тему, кто парализован физически, а кто — ментально, действуя в милитаристской парадигме, а также рассуждений о сенсорной наполненности няшного мира, Крылов приходит к заключению:
Читать дальше


![Уильям Гибсон - Агент влияния [litres]](/books/395971/uilyam-gibson-agent-vliyaniya-litres-thumb.webp)
![Евгений Щепетнов - 1971. Агент влияния [litres]](/books/396402/evgenij-chepetnov-1971-agent-vliyaniya-litres-thumb.webp)
![Евгений Щепетнов - 1971. Агент влияния [СИ]](/books/402390/evgenij-chepetnov-1971-agent-vliyaniya-si-thumb.webp)