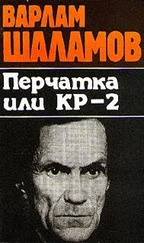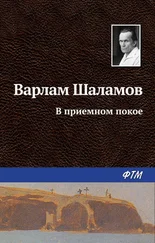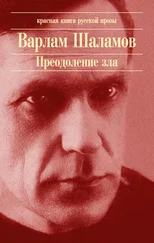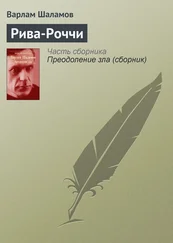— Чем вы занимались на уроке?
— Читали «Евгения Онегина», «Полтаву».
— Ну, — обратился Ушинский к ученице, — расскажите мне содержание «Евгения Онегина».
— Этим мы не занимаемся.
Старов посрамлен, Ушинский торжествует. Торжествующий автор мемуаров не замечает, что в замечании Ушинского присутствует все антипоэтическое, что только есть в поэзии, литературе и критике. Этот спор некрасовских времен дошел до нашего времени. До сих пор мы в плену у антипоэтической концепции.
Конечно, стихи не облагораживают, искусство вне нравственности. Знание тонкости Фета более важная для поэта тайна, чем моральные императивы Некрасова. На свете тысяча правд, а в искусстве одна правда. Это правда таланта. Вот почему наши вечные спутники — Достоевский и Лесков.
А вот во время войны устраивали праздничный концерт примерно такого рода, что описан у Достоевского, только страшнее, ибо голод и холод всегда вносят свои краски, свои поправки. Я предложил на таком концерте прочесть «Василий Шибанов» Толстого, но администратор в лице бригадира Нестеренко и заместителя бригадира Кривицкого отклонили стихотворение Алексея Константиновича Толстого. Я помню, что я вспомнил стихи поэта с физической болью в мозгу. Слова скреблись в мозгу, двигались очень медленно, но все же двигались. О прозе я и думать позабыл. Четыре года — 1937, 38, 39, 40-й — я не касался книг, а на Кадыкчане в бараке был освобожден от работы по болезни, и там дневальные всегда еще заставляли больных убирать барак: как это ты не можешь, температуры нет, значит, можешь! Бери метлу, а то… И в самом деле, как ни мучительно было двигаться, но я часа за три вымел барак, пока дневальный пил чай. Вот у него на нарах лежала книжка, которую я развернул с опаской. Вообще мои руки, обмороженные, гниющие пальцы не были приспособлены, чтобы держать и листать книгу, — пальцы сгибались по черенку лопаты, по кайловищу и не были приспособлены перелистывать страницы. Я все же взял книгу в руки, развернул, полистал, попробовал вчитаться и положил книгу на нары. Это было «Падение Парижа» Эренбурга, в Магадане изданная. Но дневальный понял мое движение иначе: — Не бойся, не бойся, отрывай. Я оторвал листок на курево и увидел, что четверть книжки уже искурена. Бумага была плохая, для курева хороша. Дневальный берег эту ценность тогдашнюю, украл где-то и берег.
Стихов «на дне» никаких нет, и не нужны они там. Я делал попытку предложить для чтения на концерте к октябрьским или майским праздникам в Джелгалинской спецзоне, там заставляли праздновать в отличие от 37, 38, 39-го годов, когда всех троцкистов собирали в изоляторе на праздничные дни, чтобы они не спели «Интернационал» или недопустили другую какую-либо провокацию. Это то самое пение «Интернационала» в тюрьме, которым гордился шолоховский генерал. Об этом пении начальство было хорошо осведомлено и боролось как могло. Я был изолирован в лагере в мае 1938 года и в ноябре 38-го года. Оба раза, хоть изолятор был битком набит КРТД, никто даже подумать не мог о том, чтобы спеть. А если б какой-нибудь псих попытался бы запеть «Интернационал» среди голодных, избитых, обмороженных людей, ему, наверно, перервали бы глотку его товарищи.
И еще одно. Как только стало видно, что стихи — подлинность, что в них есть и кровь, и судьба, и эмоциональный напор, и новизна интонационная, как только стало видно, что я могу рвануться почти по собственному желанию на некую высшую ступень, где нет ни зрения, ни слуха, ни одного из человеческих чувств, ибо все отключено, а мобилизовано лишь одно — познание мира с помощью стихов. Когда я понял, что могу сделать это волевое усилие, я уже в полубреду, в стихах, я стал считать себя поэтом. Не всегда это волевое усилие приводило к успеху. Иногда ничего не писалось, и я бросал писать, прекращал, выключал тайну. Мне раньше казалось, что, если я брошу писать, все кончится, завтра я уже не напишу ни одной поэтической строки. Я боялся прекратить писать, и на следующий день действительно ничего не писалось. А потом опять наступал день, когда я с удовольствием, с радостью брался за перо и писал до изнеможения, до боли в мышцах. Я перестал бояться перерывов. Вот это было как-то важно — не бояться перерывов. Нужное придет само. И в свое время.
По утрам так торопишься к бумаге, чтобы наскоро записать рожденное, вернее, рождающееся стихотворение. В моем <���мозгу> существует запас канонических русских размеров, который и может быть запущен по первому требованию моему, и обычной дорогой двинется мозг, выталкивая из гортани то, что скопилось там. Это не обязательно стихи, но именно стихам делается зеленая улица, все остальное вернется, (не) возвратятся стихи.
Читать дальше