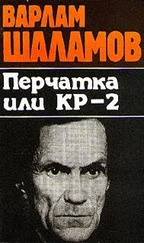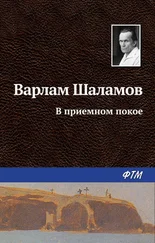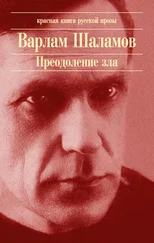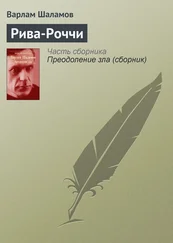В 1943 году я попал в больницу Беличью, лежал там с весом костей 40 кг и написал стихотворение — «Мечта полиавитаминозника». Чуть позднее, через год, в той же больнице я какие-то стихотворные подписи делал для стенной газеты больницы.
А в 1949 году я уже работал фельдшером, и меня, как графомана, нельзя было удержать от писания стихов. Эти тетради у меня сохранились, там нет стихов, заслуживающих печатания. Причина та, что после голода и холода даже письма было мне писать мучительным трудом, даже буквы в словах казались чуть ли не чудом из чудес, а уж соединенные в стихотворную строку — тем более. До настоящих стихов был один шаг, и я этот шаг сделал на Колыме же.
Второй причиной позднего рождения подлинностей было позднее мое знакомство с лучшими образцами русской лирики XX века. В детстве моем не было человека, родственника, учителя, который открыл бы мне поэзию, которую я мог бы понять, ощутить и превзойти, если не повторить. В мое время лучшей поэзией считались стихи Некрасова, а то, что есть вовсе другое, нам старшие не говорили. И Пушкин, и Лермонтов, не говоря уж о Баратынском и Тютчеве, вошли в мою жизнь позднее. Я шел очень медленно — от книги к книге, пропуская порой такие имена, как Случевский или Григорьев, от книги к книге сам воспитывал свой поэтический вкус, сам размерял свои поэтические силы. Но еще в школе столкнулся я с Северяниным и Есениным. Подлинность обоих не вызывает у меня сомнений и сейчас. Есенинский сборник, который мне пришлось взять из рук товарища, вызвал насмешки всех моих друзей.
Облаки лают,
Ревет златозубая высь.
Пою и взываю:
Господи, отелись!
Это все считали бредом, равно как <���нрзб>. Во всех этих стихах было одно что-то очень важное, очень правильное, очень верное для поэзии. Когда я взял в руки «Поэзо-антракт» Северянина, я даже не думал, что такие стихи можно писать. Почти одновременно я познакомился с Маяковским, Асеевым, конструктивистами, будетлянами. Со стихами Пастернака я встретился позднее, уже в Москве, с «Сестрой моей жизнью». Встреча с Есениным и Северяниным заставила меня заняться Блоком, Бальмонтом, Гумилевым. В Брюсове я не нашел поэзии, и холодные его строки взволновать меня не могли. Стихов я писал очень много, но не печатал, ибо чувствовал, что в них нет главного: новизны и — судьбы.
Я был в кружке «Нового Лефа» у Брика, а позже у Третьякова на Бронной, был у Сельвинского в «Красном студенчестве», где тот руководил кружком. Во всех этих кружках я не видел и не нашел главного: ради чего надо заниматься поэзией. В Гендриковом был балаган, кто кого грубее перехамит, кто грубее оскорбит Блока или конструктивистов. Третьяков отрицал искусство, а у Сельвинского была вообще абракадабра. Мне было тошно в этих кружках. Постоянный посетитель всех литературных вечеров того времени, я, студент МГУ, не встречал никогда ни одного живого поэта, который подействовал бы на меня как поэт, как носитель важных для меня поэтических <���истин>. Так продолжалось до того времени, пока я не познакомился со стихами Бориса Пастернака, не стал ходить на его выступления. Вот, казалось мне, единственный поэт нашего времени. С Пастернаком я познакомился позднее, об этом я написал отдельно.
Конечно, когда я написал стихи «Камея» в 1951 году в Оймяконе, Пастернак — поэт был мне уже не нужен, найден был свой язык, свое лицо. Вот это позднее мое появление было связано, во-первых, с тем, что жизнь сделала все, чтобы уничтожить во мне поэта, поэтическое начало, а Пастернак сделал все, чтобы это начало сохранилось. Не в личном смысле и не в смысле подражания, повторения его идей, а просто в стихах Пастернака и в его прозе было о чем поговорить и о чем поспорить, что признать. Все, что я говорю о стихах, о поэзии, все это относится, конечно, и к прозе. Я и прозу пишу всю жизнь, и проза выходит на свет по тем же законам, что и стихи. Итак, вернемся к этой формуле: поэт — это мальчик, написавший 30 стихотворений. Это тридцать общений с Богом, 30 раз появляется чудо <���в знании бытия>.
Если ж это мальчик, заучивший 30 стихотворений, — это тоже очень много. Пусть эти стихи — чужие. В каждом стихотворении раскрывается тайна не сразу. Стихотворный сборник требует многомесячного чтения, в отличие от романа, который можно просмотреть за одну ночь. 30 стихотворений разных поэтов — это огромный мир чувств и мыслей. Если сердце открыто для восприятия такого огромного количества впечатлений, оно, безусловно, обогатится, обогатится подспудно, подпольно, пока ты шепчешь на память стихи, вовсе не желая переводить эти строки на язык журнальных статей. Это обогащение особого рода. У нас почти ничего не сказано о стихах путного. Школьные рекомендации находятся вне постижения истины. Это старая история, старая русская беда. В известных воспоминаниях Водовозовой1 есть место о посещении знаменитым педагогом Ушинским женского института, где русскую литературу преподавал поклонник Пушкина Старов.
Читать дальше