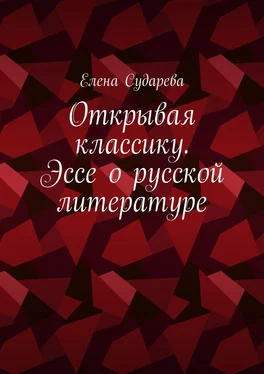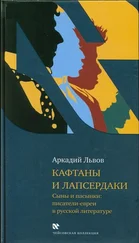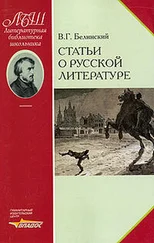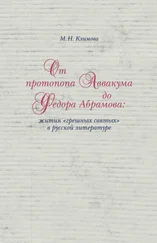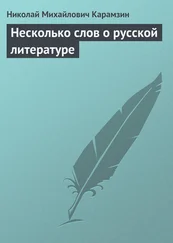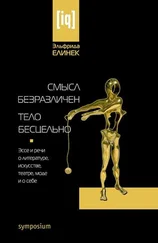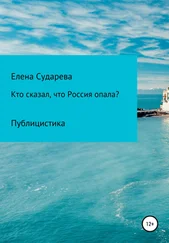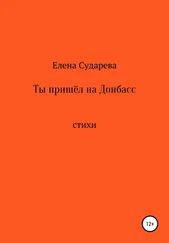«А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову… И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет… Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма», – утверждает автор.
Особенно вдохновляет Чичикова необычность его предприятия: «А главное то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит». Однако ошибся неутомимый махинатор в своих расчётах.
Уж как осторожно ни выбирал он продавцов, а все ж недоглядел. Семь потов сошло, пока сторговался с коллежской секретаршей Коробочкой. Вроде всё растолковал упрямой старушке. Так нет же! Притащилась в губернский город помещица «узнать наверно, почем ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она».
А какие деньги помещик Собакевич заламывал, хоть предмет был ничтожен, по выражению Чичикова, «просто фуфу». Да и другие продавцы (кроме Манилова) не порадовали: что скряга Плюшкин, что известный врун Ноздрев. Не затмила невероятность сделки прямой выгоды. И хоть поражены бывали поначалу, да быстро в себя приходили – и прямо к денежной сути.
Не ждал Чичиков такой деловой хватки в столь тонком деле, как продажа «мертвых душ». Просчитался наш герой. Удивили его помещики!
Но и Чичиков удивит читателя не меньше неожиданным порывом своей души. Что-то необыкновенное начинает происходить с ним самим. Не слишком впечатлительный и сентиментальный, скупщик мертвых душ вдруг испытывает незнакомое, странное «и непонятное ему самому» чувство, глядя на записки с именами умерших крестьян, купленных им у помещиков.
«Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?.. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!».
За строчками имен встают перед Чичиковым, как живые, образы умерших крепостных, к которым он присматривается с особым сочувствием и интересом. Памятью и вниманием, на которые вряд ли могли рассчитывать все эти работяги (кузнецы, конюхи, сапожники, дворовые), награждаются они во время чтения Чичиковым записок. Словно священник в церкви поминает имена усопших, молясь даровать им жизнь вечную, – Чичиков, сам не ведая того, совершает свой обряд поминовения купленных им «мертвых душ». Он будто возвращает их к жизни и воздаёт каждому по заслугам.
Чудо, да и только! Из-за махинации Чичикова эти умершие крепостные получают такое человеческое воздаяние, о котором и мечтать-то не могли при жизни. А сам Чичиков испытывает такое духовное умиление, которое тоже вряд ли посещало его до сих пор. В этот миг Чичиков невероятным образом стирает в своей душе все социальные границы, разделяющие русских людей.
Следуя для совершения сделки всем социальным водоразделам и в тонкости соблюдая все ступени иерархии, наш «приобретатель» в сердце своём раздвигает эти искусственные барьеры и погружается во всеобъемлющую человеческую теплоту.
В поэме Гоголя «Мертвые души» жители губернского города N предстают как одна большая семья, открытая и подчас наивная, со всеми своими слабостями и недостатками. Конечно, не чужды ей и материальные привязанности. Слух об огромной покупке крестьян Чичиковым и о его, возможно, миллионном состоянии никого в городе не оставил равнодушным. Однако не было в этом прямого холодного расчёта: «Жители города и без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они всё были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски…».
Этот удивительный гоголевский мир, в котором смешались все пороки любого губернского города – взяточничество чиновников, круговая порука, сплетни, затхлая пошлость – являет собой вместе с тем и тёплый мир большой семьи, странной человеческой близости и даже особого неравнодушия.
А вырвавшись из города и оказавшись вновь на просторе проезжей дороги, Чичиков, как из тёплого гнезда, вылетает навстречу всем холодным ветрам.
Чудные виды открываются на русской дороге Гоголя. Но ни её ухабы, ни рытвины не помешают вместе с автором воскликнуть: «Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!..».
Читать дальше