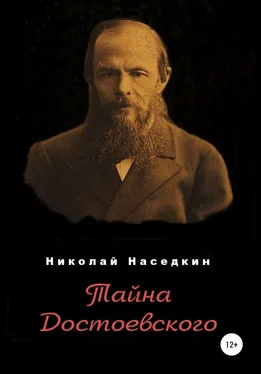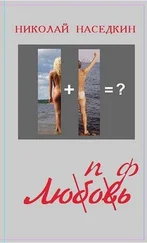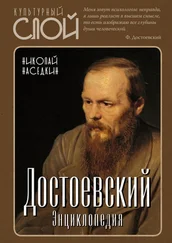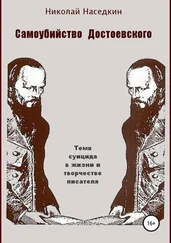Широко известна характеристика, данная Подпольному человеку А. М. Горьким в выступлении на съезде писателей: «Достоевскому принадлежит слава человека, который в лице героя “Записок из подполья” с исключительно ярким совершенством живописи слова дал тип эгоцентриста, тип социального дегенерата. С торжеством ненасытного мстителя за свои личные невзгоды и страдания, за увлечения своей юности Достоевский фигурой своего героя показал, до какого подлого визга может дожить индивидуалист из среды оторвавшихся от жизни молодых людей XIX-XX столетий»[4].
Но обличение Подпольного человека как мерзкого типа – это только одна сторона медали. С момента опубликования «Записок из подполья» в 1864 году, как уже говорилось, сразу же появилась тенденция у некоторых критиков сопоставлять героя повести с автором и говорить об этом как о само собой разумеющемся. Еще Н. К. Михайловский убеждённо писал: «Подпольный человек не просто подпольный человек, а до известной степени сам Достоевский»[5].
Сто с лишним лет эта мысль варьируется в критике, принимая окраску то сожаления (за Достоевского!), то презрения (к Достоевскому!), то явной злобы – достаточно вспомнить поздние письма Страхова к Толстому. А вот как патетически, с оттенком непонятного самобичевания ещё сравнительно недавно писал один из печально известных советских литературоведов: «Перед лицом всего человечества мы должны признать роль самого Достоевского в этом моральном преступлении (Речь идет об эпизоде с Лизой. – Н. Н. ) тяжёлой»[6].
Очень интересно, мне кажется, обратить внимание на несколько противоречивую трактовку этого вопроса М. М. Бахтиным: «Гораздо труднее дать цельный образ собственной наружности в автобиографическом герое словесного произведения (Ранее речь шла об автопортретах живописцев. – Н. Н. ), где она, приведённая в разностороннее фабульное движение, должна покрывать всего человека. Мне неизвестны законченные попытки этого рода в значительном художественном произведении, но частичных попыток много; вот некоторые из них: детский автопортрет Пушкина, Иртеньев Толстого, его же Левин, человек из подполья Достоевского и др.»[7].
Вот так, Подпольный человек есть автобиографический и автопортретный герой, такой же, как Николенька Иртеньев у Толстого, – ни больше ни меньше. Можно было бы и не удивляться такому странному утверждению уважаемого литературоведа, если бы чуть раньше, в этой же работе, М. М. Бахтин не написал: «Самым обычным явлением, даже в серьёзном и добросовестном историко-литературном труде, является – черпать биографический материал из произведений, и обратно – объяснять биографией данное произведение, причём совершенно достаточным представляется чисто фактические оправдания: то есть попросту совпадение фактов жизни героя и автора, производятся выборки претендующие иметь какой-то смысл, целое героя и целое автора при этом совершенно игнорируется и самый существенный момент – форма отношения к событию, форма его переживания в целом жизни и мира. Особенно дикими представляются такие фактические сопоставления и взаимообъяснения мировоззрения героя и автора: отвлечённо-содержательную сторону отдельной мысли сопоставляют с соответствующей мыслью героя…»[8].
Я не собираюсь доказывать, что между Подпольным человеком и Достоевским нет ничего общего. Несомненно, что в этой повести (как и во многих других произведениях Достоевского) есть штрихи автобиографичности. Но обыкновенно утверждается, что герой похож на автора или близок ему, а вот чёткой грани между ними, вроде бы, ещё не проводилось. Поэтому и хотелось бы детальнее рассмотреть – так ли уж плох Подпольный человек и чем же он действительно похож на автора, а чем нет.
Наиболее (но не во всём ) близки мне выводы, сделанные Б. И. Бурсовым в уже упоминаемой книге «Личность Достоевского». Трудно не согласиться, что все лица, созданные Достоевским, в чём-то близки его собственной личности, но отнюдь не тождественны с ней;
– что Подпольный человек совершает пакости не потому, что действительно так уж зол по натуре, а по гораздо более глубоким причинам;
– что в автопортрете героя много самонаговора, а это присуще было и самому Достоевскому;
– что много в самооплевании Подпольного человека нарочитости и показухи;
– что главный мученик в повести сам герой…
Но и Б. И. Бурсов, к сожалению, или оставил без внимания существенные черты образа Подпольного человека (ум, талант, гордость, стыдливость и пр.), или поставил акценты не там, где следовало (как, например, по поводу злосчастного эпизода с чаем).
Читать дальше