В них, в этих людях, правда — и та и другая: и вековая забитость, темнота, но и особенная человечность, духовность, которая питается из глубины из неиссякаемых источников трудовой морали, трудовой жизни.
Вот сцена у костра: первое проявление чувства любви друг к другу Василя и Ганны. Сколько об этом, о таком написано, сказано в мировой литературе, в живописи, в музыке, и на фоне каких пейзажей, какими словами это выражалось, какими красками, мелодиями! Что уж тут добавят полешуки, эти двое — в уродующих их тела свитках, жестами, словами, которые вроде бы все некстати и «не об этом»?
«Нес уголек Василь голыми руками — перекидывал с ладони на ладонь, словно играл. Красный глазок весело бегал в темноте.
Иногда хлопец останавливался, дул на огонек, чтоб не гас. Когда прибежал к Чернушкам, там сразу стало хлопотливо. Ганна торопливо подала клочок сухого сена, склонилась вместе с Василем. И снова ее прядь щекотала ему лицо, но теперь это не только не досаждало, а было даже как-то странно приятно ему. Они вместе дули на уголь, на сено, и это тоже было приятно.
Еще лучше стало, когда уголек поджег сено и вскинулся живой огонек. Хведька, бегавший около них сразу попробовал сунуть ветку.
— Куда ты такую. Ну и дурной же ты! — Ганна оттолкнула ветку и чему-то засмеялась».
А потом, через какое-то время:
«Вместе было тепло и хорошо. Василь слышал, как трепещет, бьется у его руки Ганнино сердце...
Бережно привлекая ее к себе, Василь мечтал:
— Кабы с того, что за цагельней, досталось. Вот был бы надел! Меду продал бы, семян купил отборных... Увидели бы!
— Любишь ты хвастать!
— А чего ж! Может, не веришь?
— Да нет, может, и верю! Если не врешь, так, видно, и правда.
— Правда.— Он добавил неожиданно:— За мной не пропадешь!
— Ого! Ты ж еще не сказал, что хочешь взять меня!
— А что говорить. И так ясно.
— А я думала, не на Просю ли горбатую променять собрался! Ни слова ж не говорит!»
Есть особенная, всеобновляющая поэзия именно таком порой несоответствии «внешнего» и «внутреннего», когда всечеловеческое с особенной силой начинает звучать через слова и краски самые наивные, «не приученные» к такому содержанию, когда «материк человечества» делается просторнее и богаче.
Хотя в романе И. Мележа сначала довольно четко определяется главный и вроде бы узкороманный «треугольник» (Ганна — Василь — Евхим), по взгляду на мир и людей, по окончательному развороту, жанру вещь эта принадлежит к эпопеям «толстовского типа», где фактические границы между «главными» и «не главными» персонажами и судьбами очень условны, зыбки, чисто количественные, а не качественно-эстетические.
Что мы имеем в виду? А то, что в подобных произведениях любой «не главный» может сделаться «главным», как только этого потребует само движение событий или авторской мысли. Поток может вдруг пойти по новому руслу, по руслу, так сказать, второстепенных персонажей, оказавшихся в точке «наибольшего напора».
А что, не в любом романе так? До Толстого, а именно до «Войны и мира», такой эстетической равноценности персонажей не существовало в романе: все было вплетено в активный сюжет более предопределенно. Главные так главные, и им вести все, им и завершать, на них завершается все. А потому и печать на них особенная, эстетическая — «главный!», «главная!».
Для Толстого же и Кутузов, давший вынужденный приказ оставить Москву, и аустерлицкий Тит, уходящий из пылающей столицы и которого шутники все посылали «молотить»,— оба равноценные участники события. А уж какой-нибудь тишайший батарейный Тушин или красноносый Тимохин куда более исторические лица, нежели царь Александр или Наполеон. При таком взгляде понятие «главного» или «не главного» и в самом сюжете смещается настолько, что события могли «увести за собой» именно Тушин или партизан Щербатый, не будь Толстой все-таки связан исторической канвой.
Ну, а Мележ менее связан, герои же его все жизненно равноценны: тут уж жди любых неожиданностей!
И Мележ уже удивил читателей (а возможно, и сам удивился), когда напор материала, мысли, чувства сдвинул все в романе «в сторону Апейки». Это во второй книге. Что будет в третьей, кто окажется главным, а вернее — на главном направлении жизненного потока, напора? Знает, возможно, один автор. Но вряд ли знал с самого начала. А может быть, и сам удивится, когда сюжет «потянет на себя» совсем не тот герой, который «должен был» по первоначальному замыслу.
Читать дальше


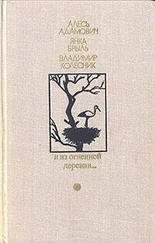

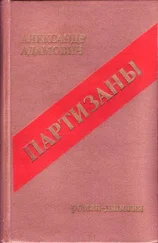
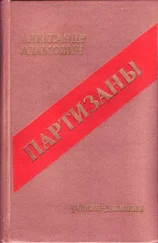



![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


