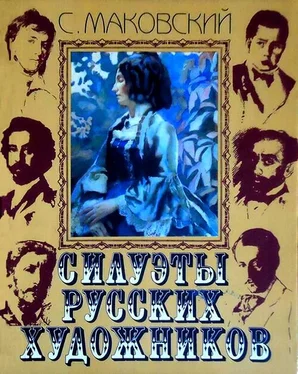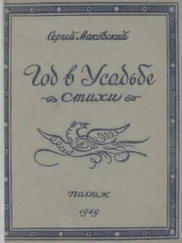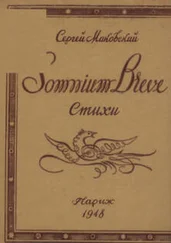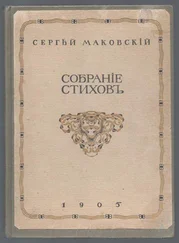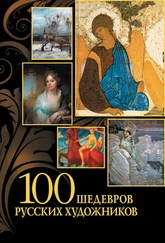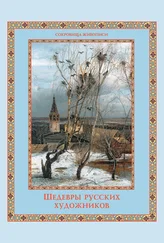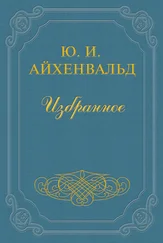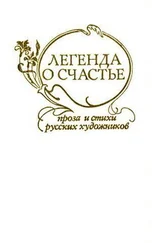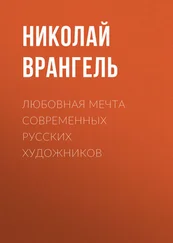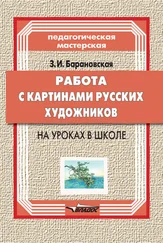Репинское словечко — «плохо нарисованный Рембрандтом следок» вскрывает искусствовоззрение всей эпохи. Рисовать хорошо означало соблюдать академический канон. По этой теории, укоренившейся с тех пор, как существуют академии, законы перевода на плоскость трехмерной формы даны незыблемо, раз навсегда. Художник вправе менять комбинации форм, но контурная передача ракурсов, пропорций, рельефа, особенно — строения тела человеческого, подчинена нерушимым правилам. Это сама истина: природа такая, а не другая, рисунок такой, а не другой… Реализм XIX столетия, мы знаем, во всей Европе возник как реакция против академий (и у нас передвижники начали исходом из кокориновского здания), но реакция коснулась сюжета и композиции по преимуществу: истина канонизованного рисунка не была поколеблена. Истина эта от поколения к поколению успела пустить такие глубокие корни в сознании не одних художников, но и судей их, любителей, которым подпевала ее величество Толпа, — что всякое намеренное отступление смельчака от этой истины встречалось неподдельным негодованием даже наиболее равнодушных к судьбам искусства, как нарушение принципа, освященного всеобщей солидарностью. Погрешности от неумения прощались, бунт — ни за что! Во времена эпигонского, подражательного академизма (хотя бы и под знаменем борьбы за «свободу искусства») особенно ревниво оберегалась канонизованная правильность. Академическим реалистам — а к таковым можно отнести чуть ли не всех видных представителей разбираемой эпохи — блюстительницей канона казалась сама «объективная природа». И они проверяли себя, совершенствуясь в «естественности», очень просто… при помощи фотографий.
Привычка искать в природе только то, что видят все, и выражать найденное тоже так, как все видят, лишила даже самых талантливых героев этого времени художнического героизма, без которого ничего долговечного не создашь. Вульгарность зрения, или, выражаясь философским термином: зрительной апперцепции, — иначе не назовешь первородного греха этой живописи, «фотографической» в идеале и потому беспомощной. Покорные догмату натуральности, жрецы ее считали правдой пустую видимость, не понимая уроков подлинно живописного реализма, т. е. правдолюбия, утверждающего не академические зады, а всегда новую и всегда личную выразительность формы.
Самый способ писать картины вполне отвечал тогдашней эстетике. Подготовительный этюд с натуры и натурщик являлись ее альфой и омегой. Ничто так не преследовалось, как «отсебятина»: без объективной самопроверки нельзя было ступить шагу. Пейзажный этюд переносился на холст в увеличенном масштабе, а фигуры, помимо общих указаний этюда, писались непременно с моделей, а то и с манекенов, которых облачали в приличествующие случаю костюмы и ставили в позу. Тщательность в этом отношении доходила до мелочей. Но главное-то и ускользало чаще всего: художественная убедительность образа. Натурщик на картине оставался позирующим натурщиком, т. е. тем, чего ни и жизни, ни в воображении не бывает. На холст переносились более или менее живо модели в позах, более или менее «естественно» наряженные, на фоне переписанного без первоначальной непосредственности этюда. Вот почему так предательски отдают маскарадом эти столь документальные жанры. Эскизы почти всегда гораздо выразительнее и картиннее самих картин. Их спасает незаконченность. Видение художника, закрепленное красочным намеком и общим ладом композиции, не стерто рассудочной мертвописью.
Вот почему, при сравнении с холстами старых мастеров, сюжетные холсты даже такого таланта, как Репин, неприятно действуют назойливостью движений, ракурсов, «типичных» фигур и выразительных ужимок. Мы отдаем должное таланту, сделавшему все, что от него зависело, чтобы преобразить загримированную модель, заострить притворный, окаменелый жест, вдохнуть неподдельное чувство в лицо, увековечить миг жизни, схваченный на лету зоркой памятью, но, как бы ни подчинялись мы внушению художника, не уйти от досадного сознания, что он связан, что изобразительные средства его ограничены ложными навыками, что он пренебрегает чем-то самым важным, бесплодно растрачивая силы на очень дешевую «правду». Репинский Иван Грозный, судорожно припавший к раненному насмерть сыну, — ярко написанная натура, не больше, так же и его Николай Чудотворец, театрально удерживающий руку палача, и театрально гневная царевна Софья, и смеющиеся натурщики с длинными усами и бритыми черепами, изображающие его «Запорожцев».
Читать дальше