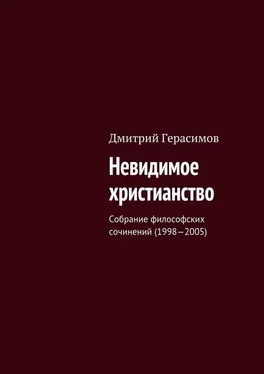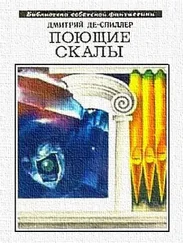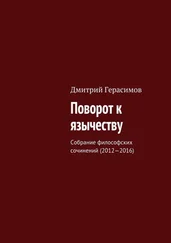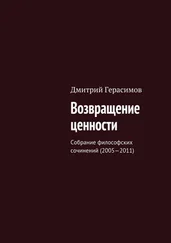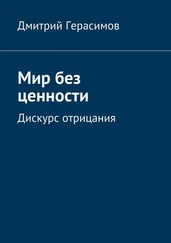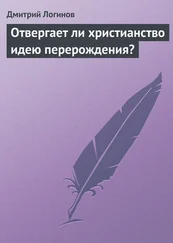Суть нравственности в утверждении человеческого достоинства, личности и духовности. Это ее основной критерий (идеал) и ее дух, в соответствии с которым моральным может быть признано лишь то, что служит сохранению и расширению пространства человеческой духовности, или иначе – всецелостности человеческого бытия, ибо дух и есть целое человека, его личность. В нравственности дух очищает себя от всевозможных вне-духовных и без-духовных наслоений, привносимых личностью из природного и социального бытия. В нравственности личность воспроизводит основные условия проявления собственного духовного облика. Любые моральные правила, как то «Не убий», «Не лги», «Не кради», «Не прелюбодействуй», «Не причиняй страдания», «Помогай слабым» и т.д., не могут быть объяснены как именно моральные, если не имеют ввиду утвердить и охранить прежде всего духовный образ человека, его личность .
Не только нравственность, но и все вообще формы духовной деятельности – религия, философия, наука, искусство – в той или иной степени воспроизводят установленные признаки духовности, несут на себе печать личности. Но есть одна сторона личности, которая в наибольшей степени раскрывает ее духовно-нравственную природу. И эта сторона связана с тайной происхождения, образования личности.
Если в целом для русских философов серебряного века, в том числе и для представителей метафизики всеединства, все же характерно отстаивание в морали приоритетов личного бытия, то в такой же мере для них характерно и то, что в утверждении самобытности человека они никогда не доходили до крайностей метафизического индивидуализма, т.е. именно отрыва личности от морали. К примеру, даже Н. А. Бердяева никак нельзя назвать «индивидуалистом» – достаточно упомянуть его идею «коммюнотарности». Все русские последователи Лейбница – А. А. Козлов, С. А. Аскольдов, Л. М. Лопатин и Н. О. Лосский – именно в силу этических оснований отказывались от положения лейбницианства о том, что монады не имеют «окон», и т. д. Однако у целого ряда русских философов, а именно у всех «прямых продолжателей дела В. С. Соловьева» – С.Н. и Е. Н. Трубецких, Л. П. Карсавина, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, отчасти Н. О. Лосского – метафизическими границами личности является уже по существу внеморальное и внеличное бытие. Причем не специфически социальное бытие, как, очевидно, полагают авторы уже упоминавшегося исследования 43 43 Емельянов Б. В., Новиков А. И. Русская философия серебряного века. Екатеринбург: Из-во Уральского университета, 1995. С. 22.
– ведь и самая общественность в русской философии всегда понималась через призму нравственного учения о личности (см., к примеру, определение общественного идеала у П. А. Новгородцева 44 44 Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: ПРЕССА, 1991. С. 66—67.
), а все тоже метафизическое всеединство бытия, которое, хотя и полагалось, начиная с В. С. Соловьева, в качестве субъекта (личности), однако по причине своего «единства» – одиночества – в корне отрицало онтологию личности, и ео ipso вело к деформации учения о нравственности в целом. Это отрывание нравственности от бытия (действительности) посредством все той же рационализации этики особенно заметно у С. Н. Булгакова в связи с его учением о религиозной задаче преодоления всякой морали и нравственности 45 45 См.: Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. С. 46.
.
И здесь мы снова видим, что только у Н. А. Бердяева в полной мере сохраняется исходная нравственная интуиция самобытности человеческого существа, а именно понимание того, что метафизическими границами личности может выступать только личное же бытие. Иными словами, личность по определению предполагает исконную множественность субъектов, их несводимость и самостоятельность по отношению друг к другу, плюрализм бытия. Не существует одного единственного абсолютного субъекта – это значило бы превратить его в объект. Как отмечает Н. А. Бердяев, «если „я“ есть все и если ничего, кроме моего „я“, нет, то о личности не может быть и речи, проблема личности даже не ставится» 46 46 Бердяев Н. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 300.
. Вот почему всякое монистическое учение об универсальном «я», в том числе философия всеединства В. С. Соловьева, по мнению Н. А. Бердяева, не имеет ничего общего с учением о личности: идея личности предполагает дуалистический элемент. Очень глубокие учения о личности у Л. П. Карсавина, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова и С. Л. Франка как раз обесцениваются их сочетанием с онтологическим имперсонализмом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу