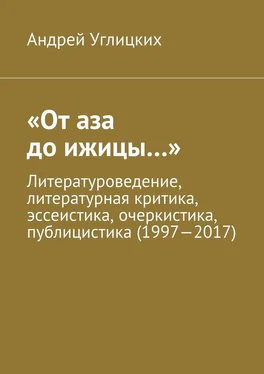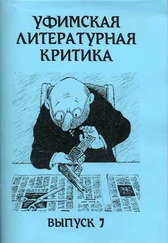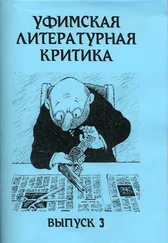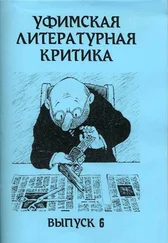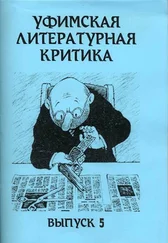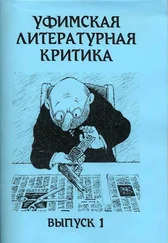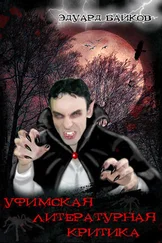По аналогии с изобразительным искусством – вместо насыщенного «московского» красочного разнообразия царства, буйства «масла и кисти» – строгая графичность, черно – белая ретушь, гуашь, «пастельный карандаш», при всем внешнем эмоциональном аскетизме, сдержанности, взвешенности, выверенности каждого слова, образа, жеста.
Можно очень условно, сказать, что стихи поэтов «северной» и «ленинградской» школ отличаются от стихов поэтов «южной» и «московских» школ, также, как к примеру, отличается природа северная, строгая и суровая, от южной – яркой, солнечной, изобилующей красками и полутонами. На юге – преобладает «масляно – красочное» многоцветье, яркость, обилие света. Север – аскеза, Юг – расхристанность.
Да вот, ведь, и в Удмуртии, где – нибудь в районе Глазова, смотришь, только в июне – июле, да и то – ненадолго расцветут неброские и немногочисленные луговые цветы, зазеленеет мир, выглянет на недельку – другую нежаркое солнышко. Но вскоре все меняется: вновь наступает время дождей, осенней слякоти, распутицы, потом – долгой, вялой, зимы, трудной весны. Изобразительно – это ну уж никак не масляная живопись, это, напротив – строгий карандаш, аккуратная гуашь, изысканная пастель, аскетичный уголь…
Хочу подчеркнуть, что данная работа, чтобы чрезмерно не усложнять дело, не рассматривает неоакмеизм и необарокко как варианты разновидностей ленинградской поэтической школы (см. статью Олега Павловского «Петербургская школа поэзии», http://stihiya.org/forum/2/444/).
Так вот, близость, соотнесенность творческих принципов и стилевых особенностей поэтического творчества В. Захарова к «северной» или «ленинградской» поэтической школе становится особенно очевидной, на мой взгляд, благодаря тому, что поэт в течение нескольких лет жил именно в городе на Неве, пребывая в сфере его духовного и творческого притяжения. При этом, то, что сам И. Сельвинский с его склонностью к экспериментаторству, поисками необычных жанров, был весьма далек от принципов и подходов «ленинградской» и «северной» школ, вовсе не помешало поэту Захарову воспринять и актуализировать их в своем творчестве.
Таким образом, доброе зерно не только попало в плодородную почву, но еще и получило все необходимые для успешного вызревания! («И все на свете не случайно, при всей случайности своей…» В. Захаров) .
По возвращении (с 1972 – го до последних дней жизни, а это, между прочим, СОРОК ТРИ ГОДА – вдумайтесь только в эту цифру!) В.В.Захаров работал в ставшем ему родным Глазовском педагогическом институте. Причем до 1998 г. возглавлял кафедру литературы, длительное время являлся деканом филологического факультета. В 2005 году поэт становится профессором, в 2006 – членом Союза писателей Удмуртии, затем СП РФ.
Мое личное знакомство с Вячеславом Захаровым состоялось в начале восьмидесятых прошлого века. Я переехал в Глазов в 1983 году. Будучи начинающим литератором, сочинял стихи, публиковался в местной периодике, принимая участие в работе литературного обьединения при городской газете «Красное Знамя». (Наряду с В. Мельмом, Л. Смелковым, А. Мартьяновым, Н. Лещевой и многими другими замечательными литераторами, перечислить которых сейчас не представляется возможным в рамках ограниченного формата статьи).
А заочное «знакомство» мое с творчеством талантливого глазовчанина случилось еще раньше, в Ижевске. Ведь первой фамилией, которую я всякий раз слышал от ижевчан, когда разговор заходил о литературном, поэтическом Глазове, была фамилия «Захаров». Который уже тогда был известен. Достаточно сказать о том, что Вячеслав выпустил в 1983 году поэтическую книгу! Кто еще из живущих тогда в Глазове поэтов мог похвастать таким результатом?
Современные стихотворцы, слегка избалованные той легкостью с которой ныне стало возможным «выпуститься», «издаться», возможно, небрежно бросят по данному поводу: «Ну и что? Подумаешь, невидаль – книжка какая – то! Да я могу сейчас пойти и отдать в печать хоть десяток их! Был бы текст, как говорится, да средства!»
Что ответить на это?
Попенять на несовершенство человеческой памяти? На то, как быстро мы забыли о том, что некогда, в советские времена для того, чтобы быть опубликованной рукопись будущего издания должна была пройти немалый путь. Продраться, буквально, сквозь тернии обсуждений на самых разных уровнях, получить кучу разрешений, заручиться поддержкой, рекомендациями маститых литераторов. Что она должна была быть включена (это обязательное условие!) в план ГОСУДАРСТВЕННОГО КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА. В общем: барьеры, барьеры, препятствия, отнимавшие у поэтов порой десятилетия жизни! (Правда, при этом мне представляется, что те , советские еще книги, были действительно КНИГАМИ. Неизбежно становились событиями культурной жизни республики и важными вехами в творчестве своих авторов! Не в обиду будь сказано это многим и многим нынешним книжным «скоро – и сыроспелкам»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу