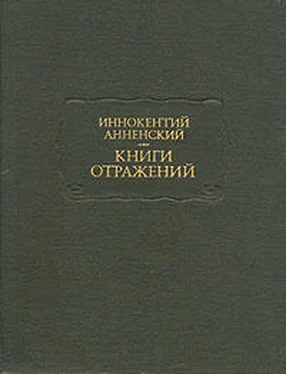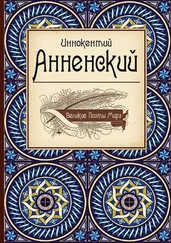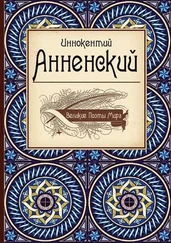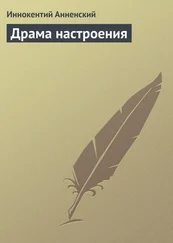На словах раба заканчивается пролог. Сцена остается свободной, а на орхестру с пением спускается хор.
Как Афродита подготовляла нас к появлению Ипполита, так вступительная песня трезенских женщин рисует нам образ снедаемой неведомым недугом царицы перед тем, как ей самой появиться на сцене. Вещая, спокойная и властная речь богини превосходно оттеняет наивную смесь слухов, догадок, порывов тревожной любви и смутных суеверных предчувствий, которая отлилась у подруг Федры в причудливую лирическую форму.
Но вот на сцене появляется озабоченная кормилица и вслед за нею несут Федру. Томная, обессиленная и обезволенная царица нигде не найдет себе места. На небе должен гореть полдень. [14] На небе… полдень… — Ср. ремарку Анненского к «явлению 5» его перевода: «Жаркий полдень. Из дворца на низком ложе выносят полулежащую Федру. Она высокая, бледная, губы сухие, с полуспущенным покрывалом на голове…» и т. д.
На это указывает и отдых товарищей Ипполита и то обстоятельство, что женщины успели вернуться с утренней стирки белья.
Кормилица Федры — не та банальная наперсница, от которой не были свободны ни Шекспир, ни Гете, но это и не бытовая, типическая фигура няньки-сводницы, которая низводила бы «Ипполита» до уровня комедии.
Старуха является перед нами символом целого мира мелких существований гинекея: [15] Гинекей. — См. прим. 6 к статье «Гейне прикованный».
этим и объясняется ее особенная сила, ее удивительное обаяние и та бесовская сеть соблазна, в которую так легко попадает Федра.
В самом деле, философски рассуждающая и тонко чувствующая женщина, перед которой бессонными ночами вставали проблемы Сократа, [16] …проблемы Сократа… — Имеются в виду слова из разбираемого далее монолога (ст. 374 сл.): «…и я решила, что не по природе своего разума люди поступают дурно… нет:…мы и знаем и распознаем благо; но мы его не осуществляем…» (пер. Ф. Ф. Зелинского в статье «Памяти И. Ф. Анненского». В кн.: Из жизни идей, изд. 3-е. СПб., 1911, т. 2, с. 375). См. также прим. 18.
и мелкодушная, хитрая рабыня — разве естественно, чтобы первая стала не только жертвой, но игрушкой в руках второй? Нет, конечно, если мы не захотим закрыть глаз на истинное значение художественной фикции и будем искать в ней только отражения действительности; но посмотрите на сцену с точки зрения символической, и она оживет для вас в новой красоте и правде. Я должен оговориться. Конечно, если бы сцена Федры с рабыней вовсе не давала нам иллюзии жизни, реальности, она бы перестала быть не только театральной, но и вообще художественной, но дело в том, что реальная оболочка этой сцены в высшей степени тонка и прозрачна, и малейший шарж в сторону быта был бы оскорбителен для ее строгой красоты. Я с ужасом представляю себе «комическую старуху» в костюме кормилицы Федры. В фигуре угодливой рабыни должно быть не более реальности, чем леса в грубой зеленой кулисе. Если я правильно понимаю Еврипида, смысл его знаменитой сцены лежит в проблеме женской души. Как в «Алькесте» своеобразное раздвоение душевных состояний [17] … раздвоение душевных состояний… — В «Алькесте» Еврипида следуют друг за другом сцены, где Адмет, страдающий оттого, что жена его Алькеста (Алкестида) принимает за него смерть, сперва сдержан и деликатен в разговоре с Гераклом, потом безудержен и резок в разговоре с отцом своим Феретом; см. об этом замечания Анненского («Театр Еврипида», 1908, с. 130–131).
послужило подкладкой изящных сцен между Адметом и Феретом и Адметом и Гераклом, так в «Ипполите» Федра и кормилица изображают сознательную и бессознательную сторону женской души, ее божественную и ее растительную форму.
Со своеобразным изяществом Еврипид придал обеим философский колорит и тонкие очертания. Душевная борьба Гамлета вышла, конечно, именно из таких сцен «двоения», чтобы в наши дни перейти снова в форму драматических галлюцинаций на страницах психологического романа.
Кормилица, которая по своим действиям является лишь хитрой и трусливой рабыней, говорит умно и даже тонко, где надо, разоблачая, где надо, маскируя: она читала поэтов, не чужда метафизики и искусно владеет иронией. Какой горькой насмешкой звучат, например, ее слова:
«Я искала лекарства от твоего недуга, но нашла не то, чего хотела: между тем, удайся мне дело, и я бы была теперь умною из умных» (ст. 698–700). В чувстве кормилицы к Федре мы различаем черты двух совершенно различных категорий. С одной стороны, в ней есть личный, реальный характер, с другой — чисто символический: с одной стороны, это самая близкая к Федре женщина, которая любит в царице свое молоко, свои бессонные ночи и свою молодость; с другой — это злейший враг Федры, ее антипод, ее отрицание, одна часть души, которая насмерть борется с другою. Если вы проследите сцену шаг за шагом, то убедитесь, что кормилица не только ищет угодить госпоже, но и взять над ней верх, что она старается усыпить ее бдительность и иногда ласкает в ней не столько больного ребенка, сколько жертву; когда старуха окончательно оставляет сцену, в ней говорит торжествующее сознание женского бессилия, наказанного за высокомерие и дерзость.
Читать дальше