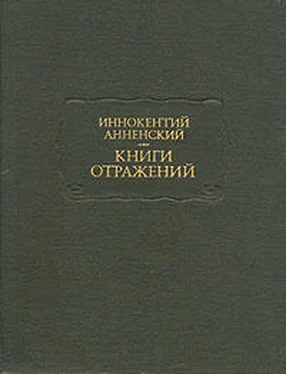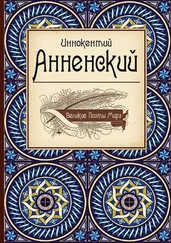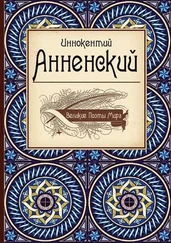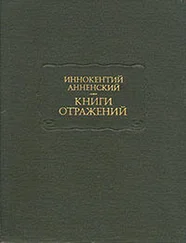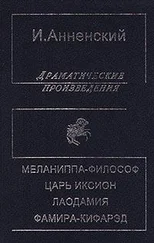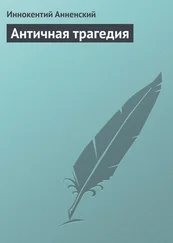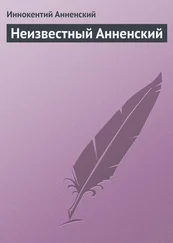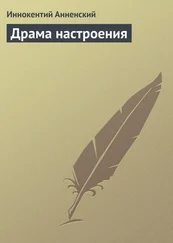и там и здесь карается богоборец, и угроза слышится еще в прологе. Но эстетически и пьесы и прологи далеко не совпадают. Дионис гораздо красочнее Киприды: этот божественный обманщик должен не только покарать своих врагов, но и одурачить их, и для этого, сам появляясь на сцене «Вакханок», под маской лидийского чародея, бог сначала даст себя связывать, а потом станет прихорашивать фиванского царя, оправляя на нем женский пеплос. Киприде же вовсе незачем являться действующим лицом драмы, это только тень, прекрасный символ той жестокой власти, которой безраздельно отданы женские сердца, и богине не надо выдумывать сложной игры со своими жертвами, потому что ее яд действует на расстоянии, и сама жизнь ей помогает.
Когда с альтана [7] Альтан (балкон) — термин, которым Анненский передавал греч. «феологий» — название машины, на которой над сценой греческого театра появлялись боги.
исчезает Киприда, на сцене показывается Ипполит со свитой. Но мы узнаем об этом приближении еще ранее из слов богини, и потому светлый облик Ипполита возбуждает в зрителях с первых шагов его на сцене особое чувство. «Он не знает, [8] Он не знает… — с. 56–57.
- говорит богиня, — что ворота Аида стоят настежь, и что это его последнее солнце». И вот с первого шага точно облако одевает Ипполита. Угроза богини не производила бы на нас такого тонкого художественного впечатления, если бы к нам выходил человек торжествующий, гордый и шумливо-веселый. Но мы видим только спокойного, чистого и ясного юношу, обвеянного ароматом цветущего луга и свежим дыханием жизни.
Еврипиду были чужды, однако, непосредственные люди, — и с первых же слов Ипполита вы видите, что перед вами не жизнерадостный атлет, не страстный охотник и не мальчик, бессознательно влекомый голосом Артемиды. Сквозь обличье наивной непосредственности вы различаете адепта, если не создателя новой веры. Луг, на котором он рвет цветы, не только заповедный луг храма, это — священный луг мистов; [9] Мисты — посвященные в мистерии, неразглашаемые культы греческой религии. Основоположником наиболее философски разработанной религии мистов считался легендарный поэт Орфей; поэтому в дальнейшем в статье не раз говорится об «орфизме» и «орфиках». Священный луг мистов — по-видимому, луг, где Плутон похитил Кору-Персефону, косвенно отождествляемую с Луной-Артемидою; это похищение инсценировалось в обрядах элевсинского культа Деметры и Коры, самого популярного в Греции мистического культа.
даже из нимф ни одна не смеет литься своей серебристой волной между его трав; одна Стыдливость поит его цветы, и только те, у кого целомудрие лежит в самой природе, кого еще не коснулись страсти, кому не надо прикрывать внешним приличием потемненной страстью души, может рвать на этом лугу его священные цветы.
Артемида, которой Ипполит приносит венок, вовсе не та подруга, с которой царевич будто неразлучен в лесу: это его идеал, это красота, о которой сын Фесея смеет только мечтать; он знает лишь голос Артемиды, и теперь, обращаясь к ее статуе, он только смутно рисует себе венок на золотисто-белых косах богини (v. 82). В виде высшей награды за незаслуженные страдания Ипполит в исходе трагедии, тоже не видя своей богини, кроме голоса, почувствует еще ее небесный аромат. К первому монологу Ипполита непосредственно примыкает его сцена со стариком: этот раб, не лишенный чувства собственного достоинства — «Царь… для меня лишь боги — господа», [10] Царь… — ст. 88; ср. «Вакханки», ст. 88: «Нет, презирать богов не мне — я смертен».
- составляет параллель к Кадму «Вакханок», но, мне кажется, что в «Ипполите» контраст интереснее.
Раб пробует уговорить царевича поклониться Киприде. Но человеку, у которого религиозное чувство покоится на традиционном страхе перед загадочными владыками мира, не суждено ни понять, ни убедить того, который сам, в силу нравственных побуждений создает себе религию. Для старика Киприду надо чтить, потому что ее особенно чтут все люди; для Ипполита же ее нельзя чтить, если сознательно чтишь Артемиду. Традиция и сознание в области религии — непримиримые враги, а суеверие настолько же трусливо, насколько высокомерно сектантство.
Расставаясь со стариком, которого он оставляет около статуи Киприды, Ипполит не без иронии желает ему с Кипридой «много радостей» (чисто Еврипидовская ирония!). Но старик не может желать, да и не хочет, конечно, кары царевича за это новое богохульство. Наоборот, он молит Киприду простить юноше его заносчивость, — недаром же боги мудрее смертных (ст. 120: sujwterouV gar crh brotvn einai JeouV [11] Ибо должно, чтобы боги были мудрее смертных (греч.).
); замечу, что его crh [12] Должно (греч.).
при этом принадлежит не столько поэту-скептику, сколько поэту-идеалисту и искателю новой веры. Между Еврипидом и Продиком [13] Продик — греческий софист, современник Еврипида, учивший, что боги суть лишь условные олицетворения человеческих ценностей.
и целая бездна. — Сдержанность молящегося старика сгущает для нас облако над светлым лицом Ипполита.
Читать дальше