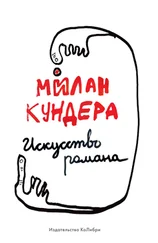Есть люди, умом которых я восхищаюсь, я уважаю их порядочность, но чувствую себя с ними не в своей тарелке: я подвергаю цензуре собственные слова, чтобы не оказаться неправильно понятым, не показаться циничным, не ранить их слишком легкомысленным словом. Они живут не в ладах с комическим. Я не могу их в этом упрекнуть: агеластия запрятана в них очень глубоко и они ничего не могут с этим поделать. Но я тоже ничего не могу с собой поделать и, хотя не могу их ненавидеть, стараюсь избегать. Не хочу закончить, как пастор Йорик.
Любая эстетическая концепция (а агеластия таковой является) обнажает широкую проблематику. Тех, кто некогда предавал Рабле идеологической (теологической) анафеме, толкало на это нечто еще более глубокое, чем вера в некую абстрактную догму. Их раздражал эстетический диссонанс: глубокий диссонанс с несерьезным; возмущение неуместным смехом. Ибо если агеласты имеют тенденцию в каждой шутке видеть кощунство, то это потому, что каждая шутка, в самом деле, и есть кощунство. Существует не подлежащее сомнению несоответствие между комическим и священным, и можно лишь спрашивать себя, где начинается священное и где оно заканчивается. Принадлежит ли оно одному Храму? Или владения его простираются дальше, включая также и то, что мы называем великими нерелигиозными ценностями: материнство, любовь, патриотизм, человеческое достоинство? Те, для кого жизнь священна, причем священна вся, без ограничений, на любую шутку реагируют с явным или скрытым раздражением, поскольку в любой шутке проступает комическое, которое, будучи таковым, является тяжким оскорблением святости жизни.
Нельзя понять комическое, не поняв агеластов. Их существование придает комическому размах, открывает его перед нами как пари, риск, разоблачает его драматическую сущность.
Юмор
Смех в «Дон Кихоте» словно вышел из средневековых фарсов: смеются над рыцарем, у которого вместо шлема тазик для бритья, смеются над его слугой, который получает выволочку. Но, кроме этого комического, зачастую стереотипного, зачастую жестокого, Сервантес заставляет нас наслаждаться совсем другим комическим, гораздо более тонким.
Любезный деревенский дворянин приглашает Дон Кихота в свой дом, где живет с сыном-поэтом. После недолгой беседы сын, весьма гордый своей прозорливостью, признает в госте неизлечимого сумасшедшего и подчеркнуто сохраняет дистанцию. Позже Дон Кихот предлагает молодому человеку почитать свои стихи; тот услужливо соглашается, и Дон Кихот в выспренной речи расхваливает его талант; довольный и счастливый, сын ослеплен умом гостя и тотчас же забывает о его безумии. Так кто же более безумен: безумец, который расхваливает здравомыслящего, или здравомыслящий, который верит в похвалу безумца? Мы вступили в сферу иного комического, более тонкого и бесконечно драгоценного. Мы смеемся не потому, что кто-то осмеян или даже унижен, а потому, что реальность внезапно открывается во всей ее двусмысленности, а вещи теряют очевидность, человек перед нами не является тем, кем хочет казаться. Таков юмор (юмор, являющийся для Октавио Паса «великим изобретением» современности, которым мы обязаны Сервантесу).
Юмор — это не вспышка, которая ослепляет на краткий миг, пока длится комическая ситуация или происходит действие рассказа, призванного нас рассмешить. Его рассеянный свет озаряет широкие пространства жизни. Попытаемся, как если бы это был ролик фильма, прокрутить во второй раз сцену, которую я только что описал: любезный дворянин приводит Дон Кихота в свой замок и знакомит с сыном, который, гордясь собственной проницательностью, признает в госте сумасшедшего. Но на этот раз мы предупреждены: мы уже видели довольство молодого человека в тот момент, когда безумец расхваливает его стихи: когда мы теперь вновь присутствуем при этой сцене, сын, гордый своей прозорливостью, представляется нам комичным с самого начала. Именно так видит мир взрослый человек, у которого большой опыт изучения «человеческой природы» (он смотрит на жизнь с ощущением, что просматривает ролик уже виденного фильма) и который с давних пор перестал принимать всерьез серьезность людей.
Если трагическое покинуло нас
После болезненных испытаний Креонт понял, что те, кто отвечает за город, обязаны обуздывать свои страсти; убежденный в этом, он вступает в смертельный конфликт с Антигоной, которая отстаивает перед ним не менее законные права отдельной личности. Он непримирим, она умирает, а он, раздавленный чувством вины, желает «никогда больше не видеть завтрашний день». «Антигона» вдохновила Гегеля на его знаменитые размышления о трагедии: сходятся два антагониста, каждый неразрывно связан с истиной неполной и относительной, но, если рассматривать ее саму по себе, абсолютно обоснованной. Каждый готов пожертвовать своей жизнью ради нее, но может заставить ее торжествовать лишь ценой окончательного истребления противника. Таким образом, каждый из них одновременно и праведник, и преступник. «Быть виновным — это честь для великих трагических персонажей», — говорил Гегель. Глубокое осознание своей вины делает возможным последующее примирение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
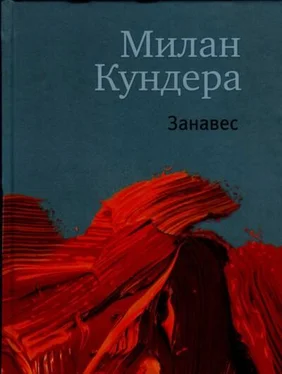
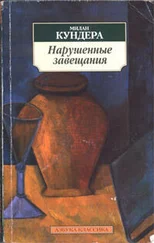
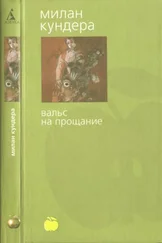
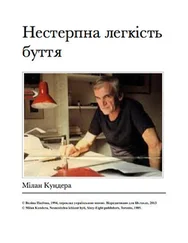
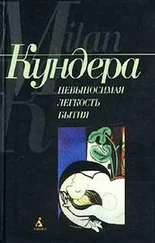
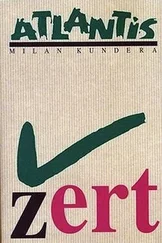

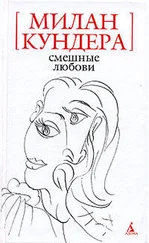
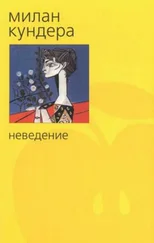
![Милан Кундера - Избранные произведения в одном томе [Компиляция, сетевое издание]](/books/426287/milan-kundera-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-thumb.webp)