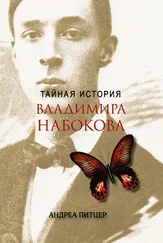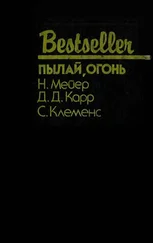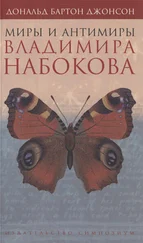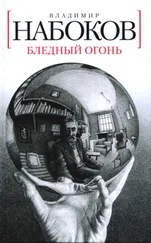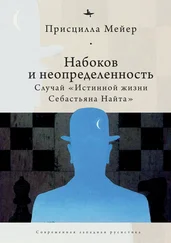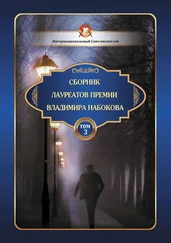Для того чтобы увидеть те метаморфозы, которые переживает в «Лолите» роман Пушкина, необходимо исследовать пересекающиеся аллеи «Онегина», «Лолиты» и «Комментария к „Евгению Онегину“». В «Комментарии…» мы найдем прочтение Набоковым романа Пушкина, а также карманный путеводитель по Петербургу, что позволит нам стать на место «Набокова, который читает Пушкина» [9] Brown, Clarence. Nabokov's Pushkin and Nabokov's Nabokov // Nabokov: The Man and His Work / Ed. L. S. Dembo. Madison: University of Wisconsin Press, 1967. P. 207.
, но удивительным образом при этом мы неожиданно получаем дополнительное вознаграждение — путеводитель по набоковскому интегрированию «Онегина» в «Лолиту», что дает нам возможность поставить себя на место Набокова, который пишет «Лолиту» [10] В Каталоге перекрестных ссылок между «Лолитой» и «Комментарием», составленном Альфредом Аппелем в его «Аннотированной Лолите», можно расслышать мотив настоящего исследования. Набоков и Пушкин связывают Байрона (72/4) и Мельмота Мэтьюрина (229/4) соответственно с Гумбертом и Онегиным; Бюргерову Ленору (209/5) — с Лолитой и Татьяной; два произведения Гёте — с Куильти и Ленским (речь идет о «Страданиях юного Вертера» (72/5) и «Лесном царе» (242/2)).
.
«Комментарий к „Евгению Онегину“» занимает в творчестве Набокова исключительное место. Это плод любви и труда, беспрецедентная дань уважения Пушкину, принесенная писателем, который прославился своими резко негативными высказываниями о «великих книгах». Прекрасно осознавая свою уникальную роль связующего звена между англоговорящим миром и Пушкиным, Набоков делает все, чтобы передать историко-литературно-культурное значение «Онегина», вводит в текст множество деталей, необычных для академического комментария, — число бутылок шампанского, ввезенных в Россию из Франции в 1824 году (176), время восхода и захода солнца в Петербурге в мае 1820 года (191) — и особенно старательно описывает литературные формы той эпохи, стремясь идентифицировать клише и формулы, на фоне которых становится понятным новаторство пушкинского романа. Набоков подробно останавливается на литературных источниках французского романтизма, к которым обращался Пушкин, но не упускает из виду и другие изводы романтизма — английский байронизм и немецкий идеализм, а также английский и французский сентиментализм. В процессе комментирования он, как и Пушкин в «Онегине» [11] И не только в «Онегине». Так, Пушкин писал брату: «Читаю Кларису, мочи нет какая скучная дура!» (Цит. по: Комм., 301).
, признается, что устал от всей этой литературы, и выказывает презрение к известного рода критике, которая умаляет достижения Пушкина в силу собственной глухоты к своеобразию словесного искусства. В комментарии к строфе XXXVIII первой главы, посвященном поиску источников и причин онегинской скуки, содержится краткая формулировка принципиальной позиции Набокова:
Русские критики с огромным рвением взялись за этот труд и за дюжину десятилетий скопили скучнейшую в истории цивилизованного человечества груду комментариев. Для обозначения хвори Евгения изобрели даже специальный термин: «онегинство»; тысячи страниц были посвящены Онегину как «типичному» воплощению чего-то там (например, «лишнего человека», метафизического «денди» и т. д.). Бродский (1950) [12] Истинное наслаждение перечитывать список из двадцати семи (старательно подсчитанных Набоковым) жутких преступлений, совершенных советским автором книги «„Евгений Онегин“. Роман А. С. Пушкина. Пособие для Учителей средней школы» (1950, 3-е изд.) — «аскетическим» (238) «несведущим, но тугодумным компилятором» (235) Н. Л. Бродским. Идеальному (т. е. «недоверчивому» (240)) читателю указывают, как «немыслимый» (239) Бродский прибегает к эвфемизмам («прочие жизненные забавы» (238) в смысле ухаживания за женщинами), как сей автор «бездарных компиляций» (68) «подтасовывает цитаты» (114) — исключительно полезный список запретов, который следует иметь в виду студенту, пишущему дипломное сочинение.
, взобравшись на ящик из-под мыла, поставленный на этом месте за сто лет до него Белинским, Герценом и иже с ними, объявил «недуг» Онегина следствием «царской деспотии».
И вот образ, заимствованный из книг, но блестяще переосмысленный великим поэтом, для которого жизнь и книга были одно, и помещенный этим поэтом в блестяще воссозданную среду, и обыгранный этим поэтом в целом ряду композиционных узоров — лирических олицетворений, талантливого шутовства, литературных пародий и т. д., — выдается русскими педантами за социологическое и историческое явление, типичное для правления Александра I (увы, эта тенденция к обобщению и вульгаризации уникального вымысла индивидуального гения имеет приверженцев в Соединенных Штатах)
Читать дальше