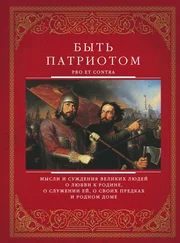Сам Набоков был не чужд… чего стоит желчная меткость его определений: «парчовая проза» (Бунин), «лампочка, горящая днем» (Достоевский) или даже Гоголь («нос и желудок»), — не чужд, расставляя ученические отметки русской классике (тайная слабость наедине с Верой Евсеевной): то одному четверку с плюсом, то другому пятерку с минусом… и вдруг Тургенев обходит Толстого. И своим фанатам-набоковистам, зарождающемуся набоковедению, выставляет он пятерки и четверки независимо от заверений в преданности и любви.)
Мне здесь хочется заявить, что Набоков, несмотря на ту нишу, в которую его засунут потомки, есть самый бессмертный писатель, бессмертный именно в категориях жизни, потому что бессмертие — его основная тема. И никому не известно, как оно ему воздаст за столь истовое себе служение.
Набоков — певец не жизни или смерти, и не жизни и смерти, и не жизни в смерти, и не смерти в жизни, а именно бес-смертия он певец.
(Слово «бес» попуталось… пожалуй, оно тут ни при чем… скорее попутал бес «красного словца»… «красное» нам западло, и мы в эту сторону не пойдем… так что без-смертие.)
Без-смертие как состояние жизни.
Без-смертны именно весенние цветы, бабочки-однодневки и девочки лет двенадцати.
Бессмертен комариный укус. Он обессмертен крестиком, продавленным ногтем на лодыжке возлюбленной («Весна в Фиальте»).
Бессмертны потерянные ключи, когда ты стоишь на пороге первого любовного свидания («Дар»).
Бессмертен апельсин в руке матери («The Real Life of Sebastian Knight»).
Бессмертна неразбившаяся крюшонница («Pnin»).
Бессмертна глуховатость мужа Лолиты.
Бессмертна ошибка, случай, опознание, отсутствие, утрата, незнание — невстреча.
Бессмертна сама смерть.
Бессмертно все то, что уловлено взглядом и слухом и запечатлено.
Набоков изловил бесконечное количество бабочек, но и бессмертие его детали есть та же самая бабочка, но уже человеческого бытия.
Чтобы обессмертить реальную бабочку, ее надо поймать, заморить, препарировать, классифицировать (дать ей имя), поместить в прозрачный саркофаг для обозрения.
Требуется не помять, не повредить пыльцу крылышек…
Чтобы отловить деталь живой жизни, требуется ничего не повредить.
Деталь нельзя удалить из жизни. Нельзя и пригвоздить к бумаге.
Для того, чтобы постичь тот эффект Набокова, которым бесхитростно восхищаются его читатели, стоит задуматься, зачем он был так жесток с бабочками и как претворял опыт в метод. (Член «венской делегации» подсказывает мне словечко «сублимация», и я опять недослышиваю, как муж Лолиты: ась?)
Есть много суждений о неверии и чуть ли не атеизме Набокова, которые можно многообразно иллюстрировать из его собственных сочинений всяческими шпильками в адрес церковников. И тут я предамся в очередной раз своим мемуарам о Владимире Владимировиче…
В романе «Подвиг» (в который раз признаюсь, что моем любимом из русских его романов) я набрел на страничку с таким открытым признанием в Вере, что она одна легко опровергала все его прочие высказывания на ее счет или, скорее, ставила их на подобающее место. Желая тут же процитировать это место, я его тут же не нашел. Как сквозь страницу провалилось… Будто он и не написал его, а нашептал.
(Вот и сейчас — я пишу это в Петербурге — среди многочисленных постсоветских изданий В. В. не нашлось ни одного с «Подвигом». Так что опять странички той нет. А я-то хотел ее здесь как раз процитировать…)
Но один раз мне эта страничка все-таки открылась…
И опять начну вспять, с начала…
В 1991 году, как раз перед пресловутым путчем, я подыскивал для семьи дачу под Петербургом (тогда еще Ленинградом), желательно в районе Токсово, родного для меня места. Нас преследовала неудача. Отчаявшись, направились мы в противоположную сторону по случайному адресу, сорванному со столба ручкой нашей двенадцатилетней (sic!) племянницы. Гатчина… Сиверская… Что-то мне все это напоминало. В Гатчине — дворец и памятник Павлу — оба хороши, и оба оказались на месте; в Сиверской… два воспоминания нависли надо мной, то есть я не мог вспомнить. И оба наметились из одной точки — сочинения Ивана Петровича Белкина «Станционный смотритель». Трактир «У Самсона Вырина», перереставрированная до неправды валютная штучка, означил для меня поворот налево, и прямо передо мной, слева от шоссе, за мостиком, на холмике, открылось… некое равнодушие опять залило мне глаза, и я не посмотрел: мол, как раз поворачивать, надо за дорогой следить, и машина ГАИ как раз сторожит на пути взгляда. Не увидел.
Читать дальше