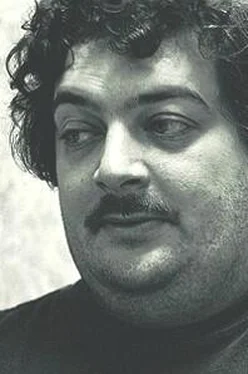Психика человека точно так же имеет множество культурных слоев. Если срезать верхний слой психической культуры, объявив его набором предрассудков, заблуждений и классово чуждых точек зрения, обнажится темное бессознательное с остатками существовавших раньше психических образований. Психический котлован, вырытый в душах с целью строительства „нового человека“ на месте неподходящего старого, привел к оживлению огромного числа архаичных психоформ и их остатков, относящихся к разным способам виденья мира и эпохам; эти древности, чуть припудренные смесью политэкономии, убогой философии и прошлого утопизма, и заняли место разрушенной картины мира».
III
Но когда Пелевин, очень рано все понявший, в 1991 году писал «Зомбификацию», — было еще не совсем понятно, что в 1985 году случился очередной провал бульдозера, только-только успевшего подняться до уровня советской культуры семидесятых (мировоззренчески и философски это была культура довольно убогая: даже у лучших ее представителей — Тарковского, Высоцкого, Шукшина, — вместо мировоззрения был эклектический набор абстракций, тот же Тарковский всерьез штудировал д-ра Штайнера, а многие творцы так и остановились на концепции социализма с человеческим лицом, и ничего — творили). Глубина нового низвержения стала очевидна в середине девяностых. Многие интеллигенты и даже интеллектуалы в это время дали себя загипнотизировать, потому что рады были обманываться (этот процесс в исчерпывающей и несколько даже избыточной полноте описан в романе Максима Кантора «Учебник рисования»). Они искренне желали видеть в новой архаике социальный прогресс, а в бандитизме — гуманизм, повторяя заклинание «Зато колбаса» (или, для аудитории побогаче, «Зато заграница»). Некоторая часть литераторов тоже повелась, в ответ на любые недоумения по поводу современности повторяя: «Вы просто забыли совок». Именно этим заблуждением (иногда сознательным, чаще же искренним) объясняется почти поголовное ничтожество русской литературы, предавшей свои традиционные задачи.
После этого очередного провала надо было спасать тех, кого еще можно спасти, — неправильных мыслящих существ, успевших вырасти в советской теплице в ее последние годы и не готовых к немедленной мутации. Обязанности и здесь оказались поделены: Пелевин стал любимым писателем своих ровесников, сохранивших некие представления о добре и зле, по-советски ограниченные, но все-таки отличные от блатных. У блатных никакого кодекса нет, кроме «Умри ты сегодня, а я завтра». Петрушевская, в соответствии с характером и темпераментом, занялась стариками и детьми.
Для спасения двадцати- и тридцатилетних оказалось достаточно с предельной наглядностью, иногда принимаемой за цинизм, изобразить иллюзорность новейших ценностных установок, терминологических наворотов и экономических прогнозов. Пелевин начал цитировать Ильина гораздо раньше бывшего генпрокурора Устинова и не только ради шутки сослался на его мысль о том, что в конечном своем развитии русская философия обречена прийти к стихийному буддизму. Пелевин — непревзойденный исследователь пустотности. Было бы грубой ошибкой утверждать, что он видит ее везде. Но там, где она есть, он разоблачает ее мгновенно. На что бы ни направлялся глиняный пулемет из «Чапаева и Пустоты» — после небольшой вспышки перед нами оказывается абсолютное ничто, и Пелевин мастерски произвел эту операцию со всеми постсоветскими идеологемами, сшитыми на живую нитку. Идея карьеры и личного преуспеяния подверглась метафорическому разоблачению еще в «Принце Госплана», философия постиндустриального общества — в «Generation П» и «Македонской критике французской мысли», гламур — в «Empire V», оборотническая державность новейшего образца — в «Священной книге оборотня», а идея личного одинокого спасения, стихийный эскапизм, который многие в девяностые годы исповедовали за отсутствием других ценностей, был прицельно изничтожен в «Жизни насекомых». Любопытно, что появление этого последнего сочинения хронологически совпало с «Дикими животными сказками» Петрушевской, очень похожими на пелевинские притчи, но с одной существенной разницей. Пелевин, очеловечивая муху Марину или таракана Сережу, почти не скрывает брезгливости, переполняющей его. Это нормально, у него другая работа; Петрушевская же страстно жалеет своих мух и тараканов, потому что брезгливость у нее составной частью входит в понятие любви — и больше того, любовь без брезгливости невозможна. Петрушевская не умеет любить здоровое, сытое, толстое: сила для нее — сигнал опасности, здоровье — наглый вызов. Как смеет кто-то быть здоров в мире, где возможно… (следует перечень диагнозов из ее прозы; Набоков писал, что в уголке каждого стихотворения Саши Черного сидит симпатичное животное, в потайной комнате каждого рассказа Петрушевской лежит больной, который давно не ходит, то есть ходит постоянно, но исключительно под себя). Как некоторые особо продвинутые ценители любят сыр исключительно с плесенью, так Петрушевская любит только того, кем можно немного брезговать; от всех ее любимых персонажей непременно пованивает, но это потому, что в нынешнее время не пованивает только от тех, кто давно уже сгнил окончательно, и гнить в них больше нечему. Все остальные — с обязательной трещинкой, гнильцой, врожденной патологией, выражающейся прежде всего в том, что они согласились в этом времени жить, тогда как самое правильное было не родиться.
Читать дальше