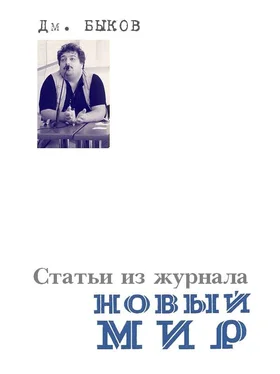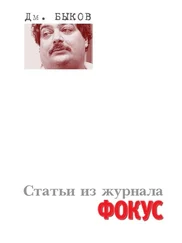Эта жизнь и без «Зеленых тетрадей» была бы честной — ведь все, что Зорин хотел и должен был сказать, он сказал в пьесах. Но драматургия — дело условное, по определению держащееся на обмане. «Исповедальная пьеса» — в известном смысле оксюморон. Хороший вкус и самоирония не позволили бы Зорину самоидентифицироваться с Дионом, Фонвизиным, Пушкиным, Бараташвили — теми, о ком он писал заветные пьесы. Высказаться полностью он мог только в эссе. Наконец, ум и талант Зорина разноприродны: талант его — счастливый дар бытописателя, лирика, жизнелюба, спортсмена, бакинца, наконец. Он зачастую не в ладу с суровым и придирчивым умом социального мыслителя, историка, коллекционера заблуждений. Именно поэтому пьесы Зорина с их неизменной теплотой и снисходительностью к героям (даже когда речь идет о самых интеллектуальных и ядовитых сочинениях вроде «Римской комедии») так разнятся от его прохладной, несколько умозрительной, но напряженной и увлекательной прозы. Любитель отыскивать во всем национальные причины задумался бы тут о сложном соотношении еврейского, бакинского и русского в зоринском характере и темпераменте, но я не из таких любителей — хотя бы потому, что Зорин, при всей верности своим корням, остается подчеркнутым европейцем во всем, от пристрастия к камерным фабулам до неизменной внешней элегантности. Может быть, именно эта разноприродность таланта и ума предопределила позицию Зорина в главном вопросе человеческого существования. Именно южное упоение жизнью, счастливый дар чувствовать ее прелесть и ее музыкальный смысл не позволили ему превратиться в плоского советского атеиста. И тем не менее современность в изображении Зорина — мир без Бога: «Господи, ты от нас отвернулся, и чем мы стали?» (примечательно, что эта мысль возникает в эссе о всевластии безобразия, о торжестве антиэстетизма — именно эстетика лежит в основе религиозного чувства таких разных, но одинаково трезвых и ироничных эссеистов, как Зорин и, например, Синявский, не говоря уж об их общем друге Белинкове). «Зеленые тетради» — книга о богооставленности, понимаемой как общая драма человечества в конце века. Именно предстоятелем, ходатаем за это измельчавшее и опошлившееся человечество чувствует себя автор, не перестающий, однако, ощущать себя мельчайшей и ничтожнейшей его частью. Ничего пророческого: малый среди малых. И это не сознательное самоумаление, не отказ от героики борьбы, риска — но своего рода экзистенциальный вызов, защита позиции частного человека, сочинителя и наблюдателя.
Зорин справедливо замечает, что у всякого значительного писателя есть своя навязчивая идея, мания, без которой — как бы назойлива она ни была временами — дар как-то ущербен. Есть такая идея и у него — это сквозной сюжет, впервые очень приблизительно намеченный в «Царской охоте», развернутый в отличной повести «Алексей» и окончательно оформленный в лучшей, на мой вкус, зоринской драме — «Пропавший сюжет» (в недавних «Сюжетах» эта же история с постоянством мании напоминает о себе снова). Формально это история о роковой влюбленности: героиня обречена, герой пытается ее вытащить из этой засасывающей воронки и не преуспевает. Обреченность бывает разного рода: иногда, как в «Сюжетах», героиня руководит воровской шайкой, но чаще оказывается авантюристкой или диссиденткой. Как бы ни был влюблен в нее главный герой, сквозной зоринский персонаж — одинокий и печальный интеллектуал, не склонный обольщаться, — он бессилен перед чужой волей и чужой страстью, которая сильнее любой привязанности. Можно сказать, что он завидует этой способности втягиваться во всякого рода роковые воронки — в политический террор, в диссидентство, в авантюры — и смотрит на своих избранниц, как береговой житель на лодку беглеца или контрабандиста в бурном море. Всю жизнь Зорин доказывает, что эта позиция наблюдателя — никоим образом не трусость и не слабость, но прежде всего трагедия хорошего вкуса. Средний вкус Пастернак называл бедствием, хороший впору назвать трагедией: он мешает и драматургу (как замечает сам Зорин), и человеку.
Для Зорина одинаково иллюзорны любые попытки компромисса с Системой и любые попытки оппонировать ей на ее языке. Заложник хорошего вкуса, таланта, просто знания истории, наконец, он, выигрывая в независимости и интеллектуальности, проигрывает в темпераменте и знает это. Но никакая любовь к авантюристам и борцам не заставит его отречься от собственной позиции честного и упрямого «двух станов не бойца» — то есть одни гипнозы сменить на другие и еще уважать себя за это. Он раньше многих понял, что «где надежда, там и крах». Может быть, именно это понимание помешало Зорину реализоваться как лирическому поэту — а ведь некоторые его стихотворные фрагменты, приводимые в «Тетрадях», превосходны. Это же, возможно, предопределило успех его пьес с их нотой неутолимой и неразрешимой печали — печали, не находящей утешения.
Читать дальше