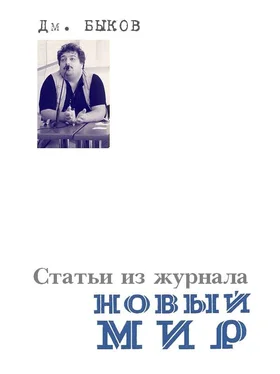Так вот: с точки зрения кинокритика «Москва» не представляет почти никакого интереса. Расхождения со сценарием минимальны, литературное качество сценария — при всех его мелодраматизмах и банальностях — не в пример выше, чем кинематографическое качество фильма, и из каждого кадра торчит невыносимое (особенно на сегодняшний взгляд) старание сделать что-то ужасно модное, ужасно актуальное, что-то, о чем Борис Кузьминский напишет одними зигзагами и восклицательными знаками — до такой степени бедны и жалки покажутся ему обычные слова. Фильм возник, как рассказывали авторы, по идее Беляевой-Конеген: ей захотелось познакомить модного писателя с молодым и тоже модным режиссером. Из соавторства Сорокина и Зельдовича родилась картина о той прослойке людей, которая — пользуясь определением самого Сорокина — не только выживает в нынешней реальности, но умудряется жить стильно.
Нелепо, впрочем, было бы думать, что перед нами некий новый стиль жизни: перед нами нечто весьма эклектичное, мертворожденное и рассыпающееся при первом катаклизме. За стилем, как ни крути, должно стоять мировоззрение, а потребление максимально дорогих вещей в сочетании с максимальной праздностью никакого стиля еще не образует. Стиль начала девяностых складывался из некритично усвоенного раннего Скотта Фитцджеральда, то есть из «эпохи джаза» с ее шальными деньгами и дамско-журнальными страстями и из клиповой стилистики рекламы. Все это несколько разбавлялось тарантинизмом, то есть чрезвычайно легким, халявным и опосредованным отношением как к жизни, так и к смерти. Обо всей этой виртуальной культуре, как и о виртуальном поколении, сейчас можно уверенно говорить в прошедшем времени — и дело, разумеется, не только в кризисе 1998 года. И без кризиса все, кому надо, понимали, что никакого нового культурного качества и никакого нового, простите за выражение, «дискурса» эпоха девяностых в России не породила. Просто появилась прослойка стремительно разбогатевших людей, которым захотелось как-то обставить свой практически безразмерный досуг. Такая категория, как труд, вообще выпала из сознания большинства граждан репродуктивного возраста. Профессия перестала быть социальной характеристикой персонажа. Местом работы стала «фирма», местом встречи — «клуб». Из речи исчезли существительные: люди отгружали, проплачивали и перетирали, никогда не уточняя — что именно (то ли в силу секретности, то ли — что более вероятно — в силу отсутствия объекта: в виртуальной экономике и виртуальной жизни вся суета происходит вокруг условных, отсутствующих вещей). При этом огромная страна (девяносто процентов ее населения и территории) жила совершенно отдельной жизнью, о которой искусство молчало, словно воды в рот набравши; отдельные тексты о всеобщей нищете выдавали на-гора лишь красно-коричневые да «деревенщики», утратившие изобразительную силу: весь пар ушел в гудок, в праведный гнев. Подавляющее большинство романов, фильмов и эссе писалось о жизни новых хозяев, — а поскольку жизни никакой не было, то и искусство выходило крайне анемичным. Не избежал этой участи и фильм Зельдовича.
Сорокина, впрочем, можно понять: единственное, что он умеет (и умеет очень хорошо, а многих умений от писателя и не требуется), — это деконструировать, ломать, разнимать на составляющие некую стилистически цельную, законченную систему. Сорокин так устроен, что муза его может питаться исключительно мертвечиной, то есть чем-то стилистически цельным, законченным, остановившимся в своем развитии. Тут приходит Сорокин и эту застывшую форму взрывает. Собственно, взрывать ведь можно по-разному: Толстой тоже последовательно взорвал форму исторического, семейного и криминального романа. Иногда асфальт прорывают ростки, иногда его долбит лом. Сорокин приходит с ломом. Строго говоря, это не столько деконструкция, сколько банальное снижение — но результат забавен. Вволю надругавшись над омертвевшими штампами соцреалистической («Норма»), русской классической («Роман») и новой детективной («Сердца четырех») литературы, Сорокин принялся искать новую пищу — и ему показалось, что начало девяностых эту пищу ему предоставило. Увы: пища сгнила в процессе потребления. И Сорокин угадал ее недоброкачественность еще в процессе работы над сценарием: «Если специально все вокруг поковырять — оно все внутри мягкое, и иногда мне страшно, что все это некрепко и упадет. То есть дом упадет, и ничего, а может, не упадет, просто у него внутри, например, картошка с тефтелями. Кавычка. Внутри всего». Эта кавычка, это вечное «как бы», приставляемое ко всему, как раз и есть очень точный сорокинский диагноз эпохе. Сталинские здания и сталинское кино, которое Сорокин так любит (и правильно делает), этой кавычки лишены. Из этой же оперы — рассказ главного героя фильма, Льва, о поисках бриллианта в трупе. Собственно, весь сорокинско-зельдовический фильм — о поисках бриллианта в трупе, с той только разницей, что в этом трупе бриллианта не было и нет. В трупах предыдущих эпох — находился, наличествовал. В этом — только картошка с тефтелями. Вялое, медленное, невнятное повествование.
Читать дальше