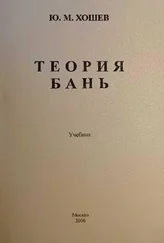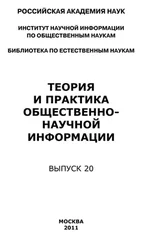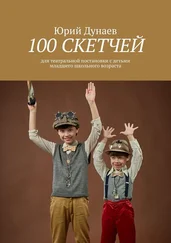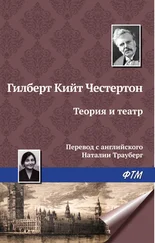Такой вопрос мог бы показаться праздным, мы бы вовсе могли его опустить, если бы не знали, насколько многовековая связь между обоими искусствами противоречива, если бы не понимали, что эти отношения весьма и весьма чувствительно задевают и драму и театр.
Положим, что иногда суть спора сводится к детскому «кто главней». Но есть глубокие, а среди них и такие великие, как Гегель, сторонники точки зрения, согласно которой содержание всякому спектаклю дает драма, сцена же данное ей содержание доводит до предметной ясности, до вещественной определенности. В крайнем выражении эта логика выглядит так: драма есть содержание спектакля, а сцена — его форма.
Напомним сразу, что тут недалеко и до прямо противоположной точки зрения. В самом деле, раз что пьеса без театра не может получить окончательного оформления, неполноценна и она. У такой концепции тоже есть защитники, и они тоже способны выдвинуть ряд правдоподобных аргументов в свою пользу. Например: так ли уж случайно даже грамотные люди предпочитают смотреть драму на сцене, а не читать глазами?
Как бы ни надоел этот нескончаемый спор, нам сейчас от него не уйти именно потому, что спорят ведь не столько о содержании, сколько как раз о предмете. Точнее, о том, есть он у театра или его нет. И тут вопрос отнюдь не престижный: нет предмета — нет отдельного искусства.
Сколь бы ни был оригинален музыкант-исполнитель, предмет его искусства тот же, что был у композитора. И именно потому искусство музыкального исполнительства есть музыкальное, а не какое другое искусство. В сущности, к такой вот логике и сводятся помянутые представления об отношениях театра с драмой: театральное творчество несомненно полноценно, говорят нам, но искусство театра при этом несамостоятельно, ибо на сцене не только получает окончательную живую форму содержание драмы, но художественно оживает самый ее предмет — отношения между людьми.
Актер исполняет обязанности персонажа пьесы, делает на сцене то, что персонаж делает на страницах первоисточника, думает и чувствует как его словесный конспект, так что мерить его искусство следует в соответствии с тем, насколько мысли, чувства, поступки персонажа сценического адекватны мыслям, чувствам, поступкам персонажа литературного. А отношения актеров на сцене воспроизводят отношения между их героями.
По всей видимости, в такой логике нет ничего ни вредного, ни заведомо вздорного, ни уж, конечно, обидного для искусства театра. Так или почти так думали и многие театральные люди. На нашей почве, где, особенно после реформ К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, неразделимость актера и героя пьесы в большом почете и ценится едва ли не превыше всего, названная точка зрения получила еще и нравственное подкрепление: что ни говори, а самоотречение артиста сцены, его способность не выпячивать собственную персону и в самом деле кажутся морально безупречными.
И все-таки прежде чем окончательно принять такую точку зрения на театральный предмет, не худо бы в очередной раз подвергнуть ее сомнению. А сомнение есть, да не одно.
Обычно мы, вовсе без злого умысла, трактуем излюбленное выражение К.С. Станиславского «сценическое перевоплощение» как требование максимальной сращенности актера и персонажа. Но так мы столь же неосознанно восходим к буквальному пониманию термина: ведь перевоплощение есть переселение душ.
Конечно, всякому ясно, что как бы глубоко ни вглядывался Станиславский в темные тайны психики, как ни очаровывался Востоком, он никогда не звал к первобытности, «перевоплощение» было для него самым близким, самым похожим на то, о чем он мечтал, словом. Он думал и говорил об «условном перевоплощении». Мы же (да и сам он порою) чаще всего все-таки на деле исходим из того, что актер, во-первых, не имеет и не может иметь никакой другой цели, кроме как стать персонажем, а во-вторых, что он в состоянии это сделать, что сама такая цель выполнима. Разве не отсюда стершийся от употребления, но не потерявший над нами очарования критерий для оценки актерской работы: стал актер персонажем или не стал, а только ловко притворяется?
Между тем, мысль Станиславского своеобразно продолжается в другой ключевой для его идей формуле — «магическое «если бы»». Разумеется, не без магии, Станиславский об этом не забывал; но, разумеется же, «если бы». Как перевести эту формулу с внутритеатрального, технического на обычный язык? «Вся духовная и физическая природа актера должна быть устремлена на то, что происходит с изображаемым им лицом»3, - строго требовал Станиславский в статье, предназначенной для Британской Энциклопедии, когда он особенно взвешивал слова. Что происходит с изображаемым лицом, об этом говорит анализ и, главное, сильное цепкое воображение актера, которое рисует облик, чувства и поведение героя. Устремленность же, по всей видимости, выражается в том, что актер ведет себя так, как если бы он был воображаемым и изображаемым им лицом и оказался в обстоятельствах этого лица.
Читать дальше