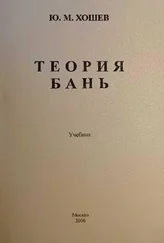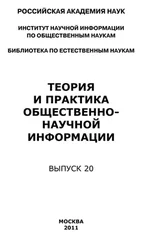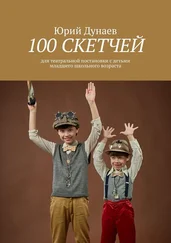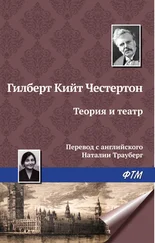Но нечто похожее происходит и с самим актером. Разве актер, играющий роль Гамлета, вкладывает в роль все, что есть в нем как в человеке или в артисте? Это невозможно: Гамлет суть границы, которые принципиально не могут совпасть с «границами» человека-актера. Но если все это так, не следует ли описать все отношения между актером и его ролью тем самым, коренным для драмы понятием — понятием драматического действия, только здесь между главными сценическими силами?
Есть все основания полагать, что драматический механизм театру подарила драма. Но следует ли из этой, пусть правдоподобной и доказуемой гипотезы делать вывод, что сам по себе театральный предмет к драматическим противоречиям равнодушен? По существу, сейчас это уже почти риторический вопрос: когда мы вспоминали о ролевых конфликтах, открытых социальной психологией, ответ брезжил. Оказывается, ролевая сфера более чем драматична. Можно и должно говорить не только о драматических противоречиях между людьми как целостными величинами; надо помнить о возможностях прямой сшибки между ролями одного человека; следует понимать, что участвуя в действии пьесы, люди ведь навязывают друг другу не просто и не только свою волю, но автоматически и трактовку своей роли и чужих ролей. В действительности драматизм ролевой сферы жизни еще шире. Человек, если он учитель или муж, всегда не только учитель и муж, мы это знаем. Но вдобавок ко всему он не роль. Этого одного достаточно, чтоб он был вынужден одновременно приспосабливать к себе ролевой стандарт учителя или мужа и самому приспосабливаться к этим нормам. Конечно, здесь-то драматические противоречия возникают не всегда и тем более не автоматически, но и здесь противоречия всегда дремлют, ждут своего часа.
Значит, не только часть ролевых отношений жизни, специально определяемая наукой как конфликтная — вся целиком сфера ролевых связей в обществе по-своему драматична. Здесь-то и возникает то самое пересечение драматизма и театральности: сама театральность потенциально драматична.
Очевидно, сейчас мы снова пользуемся «обратной связью» — движемся от театра к театральному предмету. И идя по этой дороге, обнаруживаем, что театр вовсе не как послушный ученик следует за жизнью и даже за театральностью жизни. Он слышит не все ее подсказки, а только некоторые; он избирателен. Похоже, он питается исключительно или по преимуществу такими ролевыми отношениями, которые немедля или в перспективе готовы обернуться драматическими противоречиями. С этой точки зрения, если человек, что называется, родился, чтоб стать мужем своей жены, и ничего другого ему не надо, если он, по социологической терминологии, играет роль мужа естественно и с полной отдачей, театру он не слишком интересен. А вот когда в выбранной им или навязанной ему роли мужа его что-то не устраивает, как бы он ни любил свою жену, он для театра существо желанное (впрочем, в этом случае его семейные отношения вряд ли будут бесконфликтными, так что и драма могла бы им заинтересоваться). Словом, если смотреть с эгоистически театральной точки зрения, первый вариант нетеатрален, второй в качестве жизненного прообраза героя актеру всегда пригодится.
Теперь понятие о театральном предмете, возникшем в Новое время, сформулируется следующим образом: это часть жизненных отношений между человеком, его социальной ролью и обществом, которая чревата продуктивными противоречиями, то есть драматическая сторона, совокупность драматических свойств театральности.
Так, видимо, сегодня. Но нельзя не видеть, что так было не всегда. Во-первых, по меркам истории, жизненные ролевые отношения, как ни странно, только сравнительно недавно были освоены театром как отношения важные и специфические. Во-вторых, драматизм этих отношений был на деле осознан еще позже, чем общество и наука обратили внимание на ролевую сторону жизни. Правда, из того, что мы о чем-то не знали и даже не подозревали, вовсе не следует, что этого «чего-то» не было вовсе в действительности; напротив, познать можно то, что есть. Однако же неверным был бы и противоположный вывод — что драматизм ролевых отношений, о котором мы толкуем, был всегда, что он одновременен обществу, только наши эстетические и художественные щупальца задержались в развитии на какие-то несколько столетий. Науки об обществе подтверждают скорей третью логику: и ролевые отношения и их драматическая природа были, конечно, до того, как искусство и наука обратили на них серьезное внимание, но при всей фундаментальности и хронологической солидности, эти свойства действительности не вечные, не вневременные, когда-то они возникли и при своем возникновении не были такими, какими они откроются нашим потомкам.
Читать дальше