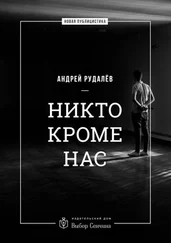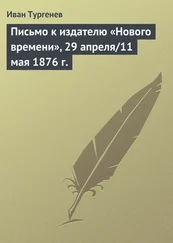Печально, но во всем этом видится некое преклонение перед гипнотическим очарованием мира хаоса, трагической неизбежности, дисгармонии. И если возможен здесь какой-то свет, то он таится под спудом, законсервирован в тайниках души и воспринимается не иначе как нелепая случайность, ошибка, сбой в системе всеобщего несовершенства.
Что творится с человеком? “Я уже давно из себя вышел. И где обратная дверь — я, кажется, позабыл”, — говорит главный герой романа Андрея Геласимова “Рахиль”. Он потерял себя, утратил знание о себе настоящем и то, что видит, — лишь миражи, остатки рассеянного сознания — состояние, равносильное клинической смерти.
Человек растрачивает себя, окружающий мир калечит его, всецело поглощает. Да и сам человек как-то слишком легко превращается в бездушный манекен. Мир болен, и человек в нем заражен. Все видимое вводит его в заблуждение, это тотальная иллюзия. Важны лишь моменты субъективного проникновения под ее маску. Именно в этот миг человек обретает настоящее объективное знание о мире, чувствует свою силу и мощь, его личное бытие обретает осмысленность: ты рассматриваешь негатив, постигаешь смысл отпечатка и переводишь его в позитивное изображение. При этом единственная истинная реальность — ты сам, твое могущество, твой взгляд, знание. Все остальное — “тени”, твоя собственная эманация, реализованная через твое восприятие. Мир — система зеркал, в которых ты силишься углядеть собственное отражение. И как заманчиво попытаться подменить отражением этим настоящую сущность!
Вот и остается во всеуслышание вопить: какой кошмар! Мир во зле лежит. Кругом мерзость, смрад и грязь. Разложение. Куда?.. Бегом, бегом из болеющей Флоренции на загородную виллу, где можно создать круг единомышленников вдали от смертельной инфекции… Меняется задача искусства. Теперь говорить о нравственности — то же, что ходить среди зараженных чумой и пытаться облегчить их страдания. Зачем? Ведь так рано или поздно заболеешь сам. Зачем? Ведь уже придумали эфтаназию. Бегом, бегом из объятой чумой Флоренции!..
Писатель перестал стремиться к совершенству. Он заранее ставит усредненную планку и в ее пределах упражняется в версификаторстве и словесной эквилибристике. Риск сводится на нет. Рисковать ни в коем случае нельзя. Да это и не принято — ведь кругом свирепствует чума. Разве кто-нибудь рискнет сейчас серьезно рассуждать о добре, чистоте, красоте, осуждать разврат, который становится нормой, отправной точкой всей системы мер и весов? Нет, нет! Есть планка, есть знание того, что кругом чума, и инстинкт самосохранения, который подчиняет себе буквально все.
В литературе, в культуре вообще ощущается размывание этической составляющей. Все согласны: этика присутствует в мире как некий эталон (как Царство Небесное), но воспринимают ее как нечто архивное, как достояние запасников музея.
Разговоры о долге, чести, совести, подчинении общественным нормам высмеиваются, а порой и караются как самое страшное преступление, ведь мораль и личный опыт индивидуума бесконечно ценны, неповторимы и уникальны; все остальное по отношению к ним вторично. Так и слышится знаменитая максима подпольного человека: “Мне чай пить, а всему свету пропасть”. Общество есть первый враг на пути моего “Я”, моей самости. Оно насильственно и ежечасно сковывает меня, не дает мне полностью самореализоваться. Да и кому может нравиться это общество — семья Андрея из “Агасфера” Сигарева?
Как говорится в эпоху принудительной толерантности: кому что. Кому стихи и розы, а кому пьяные дебоши и грязный сортир. Мечтаете о втором — получите. Отрицая ценности традиционные, нужно понимать, что вакуум тут же заполняет никчемная шелуха, — и это в лучшем случае. Герой рассказа “Куйпога” прозаика из Петрозаводска Дмитрия Новикова рассуждает следующим образом: “Моя философия в том, что нет никакой философии. Любомудрие умерло за отсутствием необходимости… То есть любовь к мудрости была всегда, а саму мудрость так и не нашли, выплеснули в процессе изысканий. … Напророчили царство хама, вот оно и пришло. Даже не хама, а жлоба. Жлоб — это ведь такой более искусный, утонченный хам”. Этот монолог наглядно рисует положение вещей: необходимо ощущение личной ответственности каждого за происходящее — “напророчили” — на фоне общей ситуации утраты системы ценностей. Именно индивидуальная ответственность, а не вина, как иным хотелось бы считать, некоего абстрактного “общества”.
Читать дальше