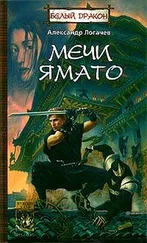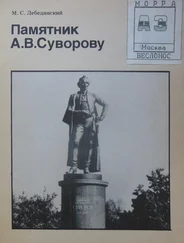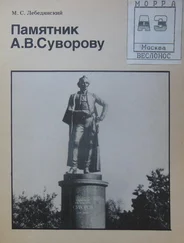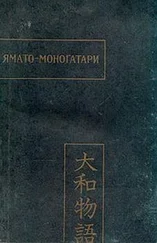Далее следует: «В дом принца Ацуёси даме по имени Ямато левый министр:
Има сара-ни
Омохиидэдзи то
Синобуру-во
Кохисики-ни косо
Васурэвабинурэ
То, что теперь
Обо мне не помните,
Терплю.
Но о любви
Забыть не могу и страдаю!»
Это стихотворение, помещенное также в Госэнсю, 11 (раздел «Любовь»), не имеет никакой связи с содержанием эпизода. Весь этот последний фрагмент почти полностью совпадает, с текстом Госэнсю, но, как мы уже упоминали, в разных списках Ямато-моногатари приводится в разном виде. В списке Тамэудзи имеется и прозаическая интродукция («В дом принца Ацуёси...»), и танка (има сара-ни), в книге Тамэиэ и то и другое написано хираганой в две строки, с пробелом между ними вдвое меньше обычного.
В группе рукописей Каритани приводится только танка, в списках годов Канги, в книгах Кацура-но мия знаками того же размера, что и в тексте, имеется приписка: «Танка из Госэнсю». Во всех остальных списках нет ни прозаического вступления, ни этой танка. Самое вероятное, что в первоначальном виде этот фрагмент отсутствовал, а был вписан позже из Госэнсю в тот список произведения, с которого потом делались многие копии, В оригинальном же тексте этого нет, следовательно, дан кончался на слове обоюрэба, т. е. в нем также был использован прием обрыва повествования.
Такахаси Сёдзи указывает, что этот прием в 171-м дане был применен поверхностно, тем более если предположить, что существовала еще танка, написанная от Санэёри фрейлине Ямато, то она наверняка была общеизвестна и могла быть легко восстановлена, а следовательно, обрыв оказывался не окончательным [51].
Однако прозаический контекст никак не подготавливает появление пятистишия, связь между ними очень неопределенна, и стихотворение по смыслу не имеет отношения к предыдущему прозаическому повествованию.
К тому же не утрачивает значения и то обстоятельство, что читатель имел дело уже с памятником письменной литературы, пусть даже он мог восполнить за счет собственных знаний и памяти определенные фрагменты в тех историях, что ему сообщались. Та же история, будучи записанной, уже носила характер текста, т. е. имела маркированные начало и конец, специальную организацию.
Поэтому обрыв, как бы легко он ни был восполним, воспринимался именно как обрыв текста, а для произведения письменной литературы такое явление уже должно было иметь свое назначение и мотивировки существования, тем более что двумя данами раньше, в 169-м дане, этот обрыв был задан гораздо определеннее и функции его были в какой-то мере более очевидны. Сами законы письменной литературы устанавливали особую значимость такого необычного оформления конца ута-моногатари, необходимость его истолкования в системе жанра. В подобном случае у читателя, естественно, возникало стремление проникнуть в замысел автора, понять цель такого стилистического хода.
Действительная разница между употреблением приема в 169-м и 171-м данах лежит в другой, на наш взгляд, области. Эта разница имеет более всего отношение к развитию повествовательных возможностей, т. е. скорее к сфере прозы, нежели к сфере поэзии.
В 169-м дане, как мы уже говорили, сюжетные линии только набирали силу и оборвались тогда, когда они еще были носителями многих возможностей дальнейшего движения сюжета и т. д. В 171-м дане они уже затухали, сюжет в общем и целом был исчерпан. Внешняя сторона приема была соблюдена – употреблена форма глагола, не могущая служить заключительной и обычно помещаемая лишь в середине фразы. Однако грамматическая незавершенность не равна обрыву сюжета, и линии развития повествования 171-го дана не подразумевали непременно наличие столь же богатого фабульными ходами продолжения, как в 169-м дане.
Итак, 169-й дан и особая форма его завершения, с одной стороны, передают то настроение, тот привкус аварэ, который характерен для поэзии эпохи в целом и, вероятнее всего, связан с буддийским понятием бренности, которое, надо сказать, в Японии было усвоено на особый лад и даже, как показывают многие исследователи, всегда несло черты, противоположные ортодоксальной буддийской доктрине.
Синтоистское архаическое сознание с его концепцией самодовлеющей природы, ориентированное на «посюсторонность» богов и предков, не совпадало с привнесенной буддизмом трансцендентностью. Отсюда – умиление эфемерным сущим, подставленное на место «буддийского бесстрастия», меланхолическое понятие аварэ, проявленное в эту эпоху в разных формах художественного сознания.
Читать дальше