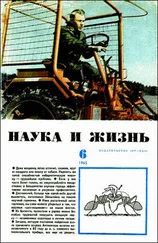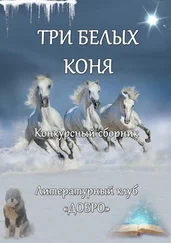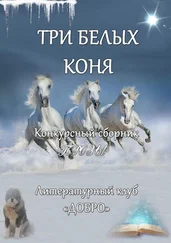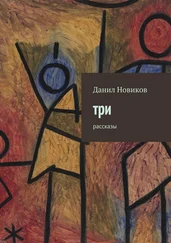При этом я отнюдь не сторонник облегченности и общедоступности. Мои поэты — непонятные пока для многих Геннадий Айги и Виктор Соснора, раньше всех заговорившие на русском языке двадцать первого века. По сравнению с ними Бродский, например, мне представляется поэтом слишком элементарным, не очень решительным в обращении со словом. Свой трезвый взгляд на Бродского, а также еще на двух временных кумиров — Венедикта Ерофеева и Николая Рубцова — я развернул в триптихе «Три стакана терцовки»: самый жанр такого откровенно-гиперболичного, сугубо «авторского» эссе назван в честь Абрама Терца. С А.Д. Синявским и М.В. Розановой я познакомился в Париже в 1988 году и был дружен несколько лет, ряд принципиальных для меня эссе печатался в их «Синтаксисе».
Отнюдь не будучи добряком, я тем не менее высоко ценю многих современных писателей. Среди «положительных героев» моих статей последнего времени — А.Солженицын и В.Богомолов, Андрей Битов и Валерий Попов, Юнна Мориц и Александр Еременко, Владимир Сорокин и Антон Уткин. Писатели очень разные, и у каждого есть стилевая динамика, сопряженная с силой авторской личности. Однако главное для меня — не «раздача слонов», не расстановка плюсов и минусов рядом с писательскими именами. Я занимаюсь критикой не описательно-хроникальной, не эмпирической, а стратегической, стремлюсь ставить на остросовременном материале теоретико-литературные и общеэстетические вопросы. Моя мечта — написать свою теорию литературы, но из опыта предшественников я хорошо знаю, что новое теоретическое озарение приходит только одновременно с мощным рывком художественной практики. С этой точки зрения миновавшие девяностые годы были не самым благоприятным временем: «живые классики» в основном стояли на месте, а большинству новых авторов фатально не хватало новизны. Одну из статей 1995 года я закончил грустной эпиграммой на современную словесность в целом:
Всюду дутые фигуры.
Что ни опус — дежа-вю.
До живой литературы
Доживу, не доживу?
Надеюсь все-таки не только дожить, но и принять участие в ее строительстве.
31 декабря 2000
Ноблесс оближ
О нашем речевом поведении
1
… И все-таки мы продолжаем говорить и писать, продолжаем вести себя — хотя и неизвестно куда. О том, как мы это делаем, и пойдет речь. В самых разных аспектах — от фонетического и грамматического до этического и политического.
Меньше всего хотелось бы, чтобы это как приобрело оттенок нормативности или императивности. «Говорите правильно, пишите грамотно и будьте взаимно вежливы», — ради такого убогого призыва не стоит даже брать в руки перо или компьютерную «мышь». «Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает», — заметил Козьма Прутков. Действительно, все нормы — гигиенические, орфоэпические, моральные — не столько соблюдаются, сколько нарушаются. Поэтому интересно не провозглашать заповеди в очередной раз, а наблюдать их позитивно-негативное бытование.
А уж если позволить себе категоричность, то только в одном тезисе: никто никого не имеет права поучать. Нет большего бескультурья, чем поправлять собеседника во время разговора. Нет большей пошлости, чем кичиться своими речевыми манерами и возвышаться над теми, кто говорит иначе (к сожалению, таким занудным высокомерием отмечены книги иных отечественных языковедов на темы «культуры речи»). Не могу удержаться от примеров «из жизни». Много лет назад в одной компании кто-то завел речь о кедрОвых орехах. Молодая филологиня перебила говорящего: «кЕдровых». Я был абсолютно убежден, что она не права, но промолчал, хотя, наверное, следовало бы защитить невинно обиженного. Дома сверился с Аванесовым и Ожеговым: конечно же, «кедрОвых» — и только так. Вышеозначенная дама навсегда обрела в моей памяти ярлычок «хамка», и когда я увидел в книжном магазине выпущенную ею монографию на какую-то экзотическую тему — даже не захотелось открыть ее и полистать: такому филологу я доверять не могу. Но сколько раз потом мне доводилось сталкиваться с аналогичной ситуацией в научно-педагогическом и редакционно-издательском быту. «Это не по-русски», «так нельзя писать», — любят выдать некоторые совершенно «от фонаря», а потом, уличенные в неправоте и некомпетентности, даже пардону не попросят.
Припоминаю, как журналисты третировали М.С. Горбачева за словечко «мЫшление». И тоже несправедливо! «нАчать», «Азебарджан» — действительно ошибки, но «мЫшление» — это устаревающий и тем не менее допустимый вариант. Полагаю, Горбачев мог слышать его от университетских философов и усвоить в студенческие годы вместе с некоторыми навыками свободного мышления (уже все равно с каким ударением, семантика важнее!). Кстати, в знаменитом фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года» эта языковая красочка была удачно использована в сцене спора двух физиков. «Узость мышлЕния!» — восклицал персонаж Михаила Козакова, мечтавший о полетах в дальние галактики. «Нет, трезвость мышления!» — отвечал ему герой Евгения Евстигнеева, более реально глядевший на вещи. Тут речь уже не о правилах, а о стилях произношения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
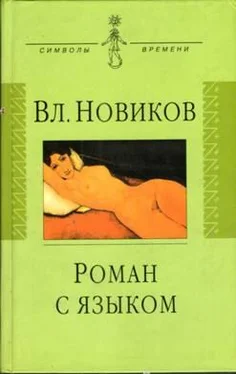
![Клод Романо - Авантюра времени [Три эссе по феноменологии события]](/books/32179/klod-romano-avantyura-vremeni-tri-esse-po-fenomeno-thumb.webp)