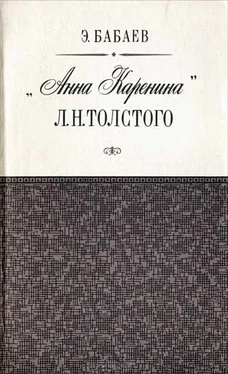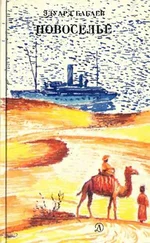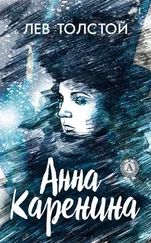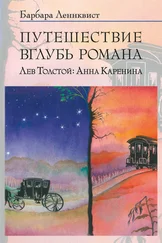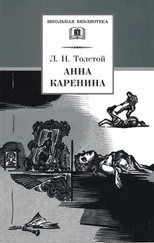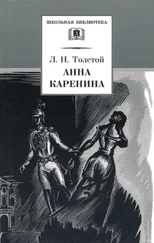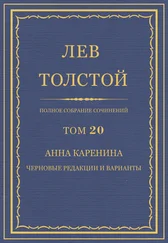Важно заметить, что и здесь не пропадает, а еще резче выделяется речевая интонация, настроение устного рассказа. Анафора — «правда, правда, правда…» — подчеркивает живой ритм речи. Сверхфразовое единство естественно возникает из внутренней природы широкого и свободного романа. Это — органическая модель художественного стиля романа Толстого.
12
В романе «Анна Каренина» авторская позиция раскрывается в системе образных отношений. И голос Толстого неприметно сливается с речами действующих лиц, то пропадая в уединенных монологах, то совершенно отчетливо выделяясь в сентенциях и афоризмах.
Каренин рассуждает сам с собою о том, следует ли ему вызвать на дуэль Вронского. Но его на каждом слове прерывает Толстой. Получается диалог автора с героем. «Положим, я вызову на дуэль, — продолжал про себя Алексей Александрович, и живо представив себе ночь, которую он проведет после вызова, и пистолет, на него направленный, он содрогнулся и понял, что никогда он этого не сделает, — положим, я вызову его на дуэль. Положим, меня научат, — продолжал он думать, — поставят, я пожму гашетку, — говорил он себе, закрывая глаза, — и окажется, что я убил его, — сказал себе Алексей Александрович и потряс головой, чтобы отогнать эти глупые мысли. Какой смысл имеет убийство человека для того, чтобы определить свое отношение к преступной жене и сыну?»
Это своеобразный спор автора с героем. Он разворачивается как бы в различных системах времени. В то время как герой занят своими «мгновенными» мыслями и судит обо всем горячо и лично, автор отходит на какую-то дистанцию и судит о нем здраво и охлаждающе. Но побеждает Каренин, сколько бы ни иронизировал Толстой над его физической робостью. «Какой смысл имеет убийство человека для того, чтобы определить свое отношение к преступной жене и сыну?» — говорит Каренин. В этом вопросе заключается нравственное опровержение той мысли, которая очень волновала Толстого. После «Анны Карениной» Толстой написал «Крейцерову сонату». Но Позднышев, совершивший убийство для того, чтобы «выяснить свое отношение к преступной жене», — это уже иной психологический тип. Однако и Каренин и Позднышев были в душе автора, когда он обдумывал роман о «неверной жене и всей драме, произошедшей из-за этого».
Многие афоризмы в «Анне Карениной» могли бы составить тему развернутого философского или публицистического отступления. Это яркие маяки, освещающие обширные пространства его романа. Вообще произведения Толстого, как это заметил еще А. Ф. Кони, «почти всегда начинались с какого-нибудь общего положения или афоризма и, отправляясь от него, как от потока, текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных струях и высокое небо, и глубокое дно» [119] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1, с. 332.
. Так это было и в «Анне Карениной». Тема романа определена с самого начала, с его первых строк.
Толстой как бы указывал на семейную и бытовую форму той самой трагедии, которая в «Войне и мире» была развернута в историческом плане. Окончив «Войну и мир», Толстой сказал: «Счастливые народы не имеют истории» (61, 269). Начиная «Анну Каренину», он записал в одном из черновиков ту же самую мысль о «счастливых народах» (20, 16). Отсюда и вырос тот афоризм, который открывает его «исполненную тревог, горя и зла книгу»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему…»
От эпиграфа, взятого из Библии, через весь роман проходит стилистическая линия торжественной речи о смысле жизни. Левин повторяет «Воспоминанье» Пушкина: «С отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю», как молитву; а его молитва «Не по заслугам прости меня, а по милосердию твоему», звучит как стихи. Уже в «Анне Карениной» Толстой пытался отделить стиль исповеди и моральной проповеди от церковнославянской архаики. Здесь начинается развитие новых стилистических качеств прозы Толстого, получивших законченное выражение в «Исповеди».
Афоризмы в «Анне Карениной» имеют несомненное сходство с тезисами позднейшего морального учения Толстого. Голос искреннего покаяния Левина сливается с голосом автора. Ему нужно было свести счеты со своим кругом, с прошлым, к которому он принадлежал по рождению и воспитанию. «Да, надо опомниться и обдумать… — говорит Левин. — Все сначала». Эти слова Левина были как бы началом исповеди самого Толстого.
* * *
Ровно сто лет назад, в 1878 году, вышло в свет первое отдельное издание романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Толстой окончил эту книгу в канун своего пятидесятилетия, уже будучи признанным и прославленным писателем. Он создавал свой роман в Ясной Поляне, глубоко охваченный мыслями о жизни, об истории и современности. И его книга как художественное целое принадлежит к классическим произведениям русской и мировой литературы.
Читать дальше