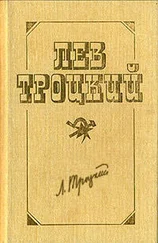Было бы неестественно, если бы, проявив такие блестящие полемические способности и такое несравненное понимание марксизма в теоретических вопросах, т. Румий изменил себе, перейдя к вопросам литературной политики. Прежде всего оказывается, что Лелевич настаивает не только на «защите своей литературы», но и на «изничтожении не своего» (стр. 241). Это безукоризненное изложение моих затаенных желаний сделано на основании одной моей старой статьи, в которой я писал: «Партия может при помощи критических выступлений в органах печати популяризировать определенные литературные течения, писателей и произведения или, наоборот, бичевать либо замалчивать их» («На литературном посту», стр. 17). Разве я говорил здесь об «изничтожении не своего»? Я просто указывал сторонникам «нейтралитета» партии в вопросе искусства на необходимость и возможность определенной политики правящей партии по отношению к современной литературе и на некоторые практические способы осуществления этой политики. Вряд-ли можно сомневаться, что клеветнические и порнографические произведения следует бичевать, что бесспорно обывательские и бездарные произведения полезно часто просто замалчивать, ибо не стоит тратить на них энергии, что произведения пролетарские и, вообще, действительно революционные, талантливые и яркие, следует популяризировать, пропагандировать, рекомендовать. Т. Румий проявил в своей статье бездну самобытности и оригинальности и непонятно, зачем ему понадобился еще избитый, истрепанный старый жупел, будто напостовцы хотят «изничтожения не своего». Право, этой сказкой теперь даже младенца не испугаешь.
Не оставив камня на камне от приведенной моей цитаты практического характера, т. Румий затем изобличил меня в неумении пользоваться Плехановым: «Все это выведено из того места в статье Плеханова, где он доказывает, что „искусство для жизни“ не есть чисто революционное явление, но что и в консервативных, нередко прямо реакционных целях правительства (Николай I, Бонапарт, Наполеон III и т. д.) тоже прибегали к помощи принципа гражданского искусства. Так вот Лелевичу так понравились уроки Николая I (которые Плеханов приводил отнюдь не для того, чтобы их переняли члены революционной партии), что он решил сделать их основой для жестокой литературной дискуссии» (стр. 241). Эти строки повергли меня в самое убийственное настроение. В самом деле, как же это я захотел опереться на практику реакционных правительств, практику, которую Плеханов отнюдь не советовал революционным партиям?! Однако, раскрыв самого Плеханова, я увидел там следующие слова: «Всякая данная политическая власть всегда [6] Курсив мой. Г. Л.
предпочитает утилитарный взгляд на искусство, разумеется, поскольку она обращает внимание на этот предмет. Да оно и понятно: в ее интересах направить все идеологии на служение тому делу, которому она сама служит» («Искусство», стр. 141). Значит, Плеханов говорит здесь не о реакционных и консервативных правительствах, а о всяком правительстве? Или, по мнению т. Румия, советская власть не заинтересована в том, чтобы «направить все идеологии на служение тому делу, которому она сама служит?»
Полемизируя с принципами литературной политики партии, предлагающимися напостовцами, т. Румий сравнивает меня грешного с николаевскими душителями литературы, с Ширинским-Шихматовым. Нельзя сказать, чтобы такие сопоставления были очень новы. Меньшевистская печать давно поставила знак равенства между деятелями царистского деспотизма и деятелями пролетарской диктатуры. И если уж на то пошло, то мы готовы быть Ширинскими-Шихматовыми рабочего класса. Я только хотел бы предостеречь т. Румия от этого метода полемики и мышления, ибо, будучи последовательным, он должен будет отвергнуть вообще диктатуру пролетариата, от которой, продолжая его мысль, пахнет Николаем I и Муссолини. В конце концов, сравнивать диктатуру трудящихся масс, борющихся за уничтожение классов, с диктатурой кучки эксплоататоров, сравнивать их на основании внешнего сходства некоторых приемов принуждения — дело даже для меньшевика сейчас безнадежное. Что же выходит, когда за него берется коммунист?
Все это заставляет целиком согласиться с благородным признанием т. Румия, который пишет: «Нам ни теоретически ни тактически непонятна позиция товарищей из „На посту“ (стр. 240). Совершенно верно, наша позиция вам, т. Румий, ни тактически, ни теоретически непонятна. Но, в таком случае, может быть полезно было бы временно отложить мысль о громовой статье и обратиться к напостовцам за соответствующими раз'яснениями? Правда, ваша статья не внушает особой уверенности в том, что эти раз'яснения были бы усвоены, но попытка — не пытка.
Читать дальше