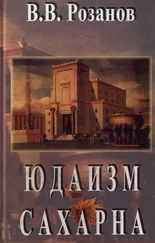Чуковский о всех стихотворных выкрутасах Уитмена имел несчастие написать:
«В этих великолепных словах Уитмен дает нам вечную, гранитную основу равенства: веру в мистическую сущность бессмертного человеческого я, — чтобы демократия вошла и утвердила новую грядущую религию всесвятости и человекобожества…»
Не скорее ли «всесвинства» и «человекоскотства»?
И далее:
«Демократия принесла человечеству новое слово: товарищ. Чувство, что мы рядовые какой-то Великой Армии, которая без Наполеона и маршалов идет от победы к победе, проникло уже в каждого из тех, кто заполняет сейчас площади, театры, банки, университеты, рестораны, кинематографы, трамваи современных многомиллионных городов…»
Также о словах Уитмена, что он приглашает «на пир к себе» — «как равных» — и проститутку, и сифилитика, — Чуковский пишет: «Прежние века и не мечтали о такой безумной широте». И снова роскошествует в цитатах: «Я и краснокожий, и негр, и каждая каста — моя, каждая вера — моя, я фермер, джентльмен, механик, художник, матрос… буян, адвокат, священник и врач» (Уитмен).
Врешь, голубчик, — врешь, наш милый Хлестаков!! Ты — не только не «все» это, но и — никто, ничего «из этого». Ибо ты весь — бездомен, дик несравненною дикостью, ты совершенно бесприютен в мире, и тебе некуда причалить среди всемирного океана твою утлую лодочку — ни к какой на земле церкви, ни к какому царству, городу, закону, сословию, профессии, насколько профессии все суть естественно «столбовые», наследственные, преемственные… В твоем несчастном глазу все смешалось, и в твоем несчастном уме тоже все перемешалось. Ты ото всего «отстал», воображая, что «ко всему пристал»… О, странный человек без родины и истории. «Мистический хулиган», hooligan mysterious…
В этом смысле явление это есть старое-престарое, затасканное и перезатасканное, коим полны книги, газеты, журналы, полна толпа и улица после французской революции; но в Уитмене все это достигло своего предела и завершения, и вот отчего «почти все современные французские поэты находятся под обаянием Уитмена», а в Европе, в других странах, прямо открылась «пропаганда Уитмена»… Так понятно: ибо этот колосс безобразия завершает, заканчивает безобразное явление… Явление мирового обездушивания, обезличения, но с дифирамбами, с колокольцами, с бубенчиками и полным счастьем…
Знаете: для великой грусти нужно иметь ум. И великое падет непременно с грустью… Но мелкое и «гаер в себе самом» непременно и падать-то, и умирать-то будет с бубенцами… Поразительно, что во всем Уитмене нет ни одной грустной строчки… Да и ни одной в собственном смысле — размышляющей, думающей. Половина книги Чуковского состоит из переводов. Тут много яркого, поражающего; много формул прекрасного алгебраического закругления. Но нельзя нигде открыть «задумчивого лица Уитмена». Не страшно ли? Мне — страшно.
В. Розанов
1915