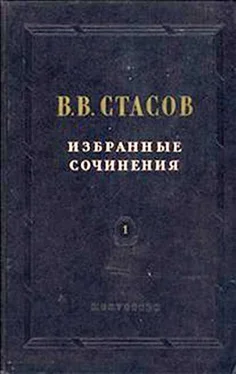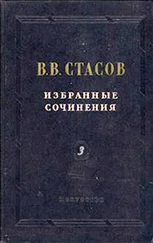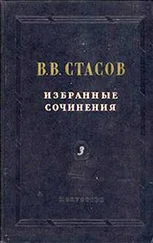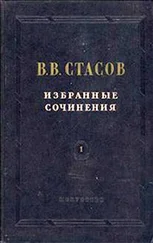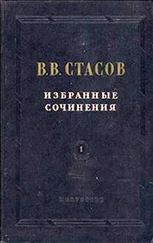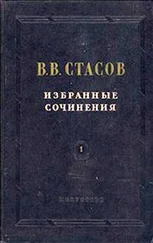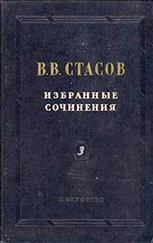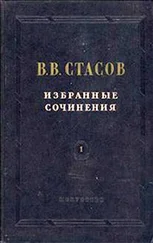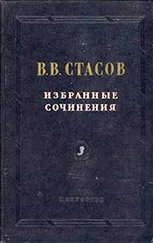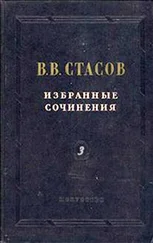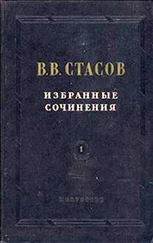«Нюрнбергские певцы» — это апофеоза поэзии и художества, побеждающих тупое музыкальное филистерство, это выраженное в ярких сценах торжество молодости, жизни, стремящихся вперед сил — над старыми преданиями и закоснелым консерваторством. Молодой, талантливый и поэтический дворянин Вальтер фон Штольцинг попадает в среду нюрнбергского музыкального цеха, который сначала не признает его таланта, не хочет знать его юного вдохновения и гонит его прочь во имя старых музыкальных цеховых узаконений, которые у него считаются (как у консерваторов всех времен) чем-то божественным и неприкосновенным. Но вот назначается другой опыт, публичный, всенародный, и Штольцинг, вдохновенный любовью и силою глубоко чувствуемого, правдивого художества, находит в груди своей такие звуки, такую львиную мощь, такую страстную увлекательность, перед которыми падают все старинные перегородки и предубеждения, и народная масса, умиленная, восторженная, чувствует одно только — поэзию нового, светлого художества, идущего из глубочайших родников души; все преклоняются, все покорны новым звукам, старое рутинное искусство побито наголову и со стыдом бежит вон со сцены, в лице старого педанта и шульмейстера Бекмессера, который было тоже вздумал явиться претендентом для получения руки хорошенькой Еввы. Рядом с этою главною задачей является величавая, простая и в высшей степени симпатичная фигура сапожника Ганса Сакса, национального поэта Германии, который в настоящей опере, даром что сам принадлежит к музыкальному цеху, но раньше всех других понимает талант и поэтичность Вальтера Штольцинга и из всех сил помогает ему добиться заслуженного торжества. Прибавьте к этому чудесные народные сцены, то комические, то широкие и величественные (напр., собрание целого города, летом, в чудесный солнечный день, среди праздника, для решения интересующих его дел), прибавьте набожные сцены в церкви, сцены народной суматохи, бестолковщины ночью, когда все сбежались, толкутся, шумят и орут и никто хорошенько не знает, в чем дело состоит и что такое происходит, прибавьте сцены веселых подмастерьев, сцены тупого и тяжелого дурака Бекмессера, педанта старой школы (вроде наших музыкальных консерваторов), наконец, прибавьте милую и грациозную Евву, и вы получите такую оперу, какой вы еще никогда не видали на европейских сценах, — оперу, дышащую правдой, естественностью и красотой, как почти ни одна из остальных опер, нам известных на Западе.
В своих «Нюрнбергских певцах» Вагнер остался при очень многих своих всегдашних музыкальных недостатках: речитатив у него и здесь вычурен и неестествен, мелодия подчас надута, безвкусна и тяжеловесна, многое слишком декорационно или грубо, есть много страниц, которые бы следовало прямо исключить, как сухие и скучные, и притом совершенно напрасно замедляющие действие и вредящие интересу (и действительно, нигде эта опера не дается целиком, а можно было бы немало еще выкинуть, например, бесконечный рассказ Погнера в первом действии); наконец, несмотря на весь оркестровый талант Вагнера, инструментовка у него даже и здесь подчас груба и немного топорна; но, несмотря на все недостатки, в общем эта опера одно из замечательнейших явлений всей существующей на свете музыки. Ничто не может сравниться с поэтичностью любовных сцен Вальтера и Еввы, ночью, на узкой и тесной средневековой улице, при лунном свете, или с вдохновенным пением Вальтера перед собранием народным: впечатление этих великолепных сцен так глубоко, так неизгладимо, как немногое на свете, и прелестная, грубо художественная инструментовка еще во сто раз увеличивает это впечатление. Еще никогда прежде Вагнер не поднимался до такой высоты!
Слушая «Нюрнбергских певцов», я поминутно думаю про себя: «Когда же станут давать эту чудесную оперу, наконец, и у нас? Я знаю, она страшно трудна, страшно сложна и для оркестра, и для певцов, и в особенности представляется сущей каторгой для каждого дирижера. Да что же делать, когда все хорошее теперь так сложно! Рано ли, поздно ли, но это необыкновенное, высокоталантливое произведение должно появиться и на нашей сцене, давно уже обойдя всю Европу. Так чего же ждать еще? Чем скорее, тем лучше».
1873 г.
Общие замечания
Все статьи и исследования, написанные Стасовым до 1886 года включительно, даются по его единственному прижизненному «Собранию сочинений» (три тома, 1894, СПб., и четвертый дополнительный том, 1906, СПб.). Работы, опубликованные в период с 1887 по 1906 год, воспроизводятся с последних прижизненных изданий (брошюры, книги) или с первого (газеты, журналы), если оно является единственным. В комментариях к каждой статье указывается, где и когда она была впервые опубликована. Если текст дается с другого издания, сделаны соответствующие оговорки.
Читать дальше