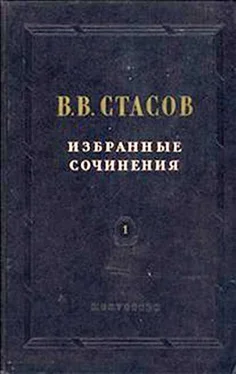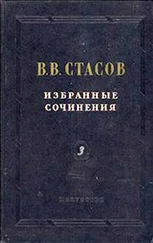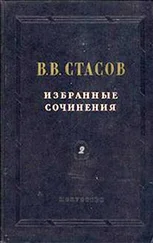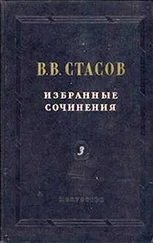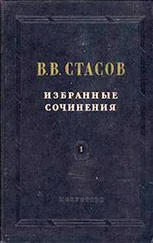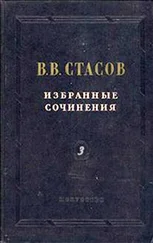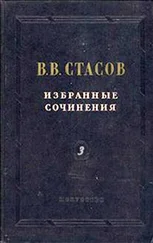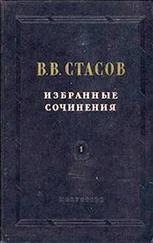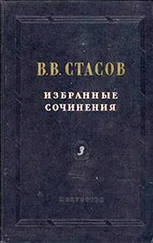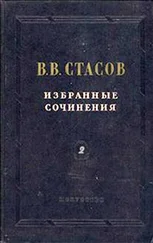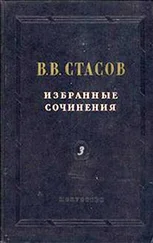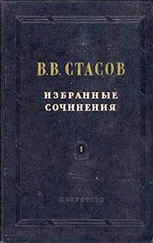Владимир Стасов - Заметки о демественном и троестрочном пении
Здесь есть возможность читать онлайн «Владимир Стасов - Заметки о демественном и троестрочном пении» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1952, Издательство: Государственное издательство Искусство, Жанр: Критика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Заметки о демественном и троестрочном пении
- Автор:
- Издательство:Государственное издательство Искусство
- Жанр:
- Год:1952
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Заметки о демественном и троестрочном пении: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Заметки о демественном и троестрочном пении»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Заметки о демественном и троестрочном пении — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Заметки о демественном и троестрочном пении», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Таким образом, тот, кто ищет определительного обозначения, в чем выразилось в особенности и по преимуществу певческое искусство древней России, в чем состояло тогдашнее направление, вкус, мастерство, уменье, — найдет этому ответы при рассмотрении книг, заключающих демественное пение, тогда как остальное церковное пение древней России осталось более близким и верным первоначальному греческому преданию и учению.
Теперь мы считаем необходимым обратиться к вопросу, тесно связанному с вопросом о демественном пении — мы разумеем так называемое пение троестрочное. Сообщаемые нам сведения о нем столько же неверны, сколько и то, что нам рассказывают в разных сочинениях о пении демественном, а между тем этот род пения имеет столько же исторической важности, как и тот.
В сказании Степенной книги о пришествии трех певцов в Россию, мы находим упоминовение о «трисоставном сладкогласовании», принесенном в Россию этими греками. К несчастью, это несколько неопределенное слово «трисоставное» сбило с толку наших историков и критиков. Из числа их, митрополит Евгений, писавший раньше других (тем более, что он первый стал говорить у нас об этом свидетельстве Степенной книги), на основании слова «три» и на основании своего незнания истории музыки, вздумал утвердительно и без дальнейших справок сказать, [10] «Историч. рассужд.», стр. 10. — В. С.
что «трисоставное пение» есть не что иное, как пение трехголосное, прибавив к этому, что принесенное таким образом из Греции, трехголосное пение утвердилось в России тогда же, в XI веке, и с тех пор осталось в церковном употреблении во все время существования древней России, так что примеры этого пения мы до сих пор находим в старых троестрочных певческих книгах. В другом сочинении митрополит Евгений говорил, [11] «Отечественные записки», 1821, ноябрь, стр. 151. — В. С.
что это троестрочное пение, перенятое в XI веке из Константинополя, «долго в России употреблялось, пока ввелось четырехголосное, восьмиголосное, двенадцатиголосное и даже двадцатичетырехголосное». Как во всех других пунктах, писатели наши и здесь буквально и без всякого дальнейшего исследования повторяли слова митрополита Евгения, и таким образом в настоящее время у нас твердо повсюду укоренено убеждение, что в Греции существовало трехголосное и вообще многоголосное пение, что мы его переняли от греков, и только вследствие разных неблагоприятных обстоятельств оно затеряно у нас. По словам одного из новейших наших писателей, г. Сахарова, [12] «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1839, № 8, стр. 55. — В. С.
«в этом пении столько совершенства, что восстановление его в наше время было бы величайшею заслугою. Мы восстановили бы через него забытое греческое песнопение. Мы открыли бы в священных песнопениях высокое духовное просвещение греков — людей, знавших пение в высочайшей степени совершенства». К этому прибавляется дальше, что: «троестрочное пение разделялось (?) на четыре рода (?!): на пение: четырехголосное, осмиголосное, двенадцатиголосное и двадцатичетырехголосное. Крюковые знаки этого пения писались в три, четыре и более строк».
Все эти факты, столь утвердительно выдаваемые за несомненные, — будь они доказаны и существуй действительно, имели бы необыкновенную важность не только для русской истории пения, но и еще несравненно большую важность для истории европейской музыки вообще. Для европейских ученых, занимающихся историею музыки, факты эти были бы истинно неожиданною находкою, драгоценным сокровищем; они совершенно опровергли бы существующие до сих пор в истории музыки известия и выводы и дали бы совершенно новый поворот критическому и историческому изложению хода музыки в продолжение средних веков. Потому что по всем сохранившимся музыкальным памятникам, начиная с отдаленнейших эпох новой Европы и до времен новейших (эти памятники нигде и ни в какое столетие не прерывались), до сих пор известно было, что ни у азиатских народов, ни у Греции, их прямой наследницы, не существовало и до сих пор не существует ни гармонии, ни многоголосности правильной и преднамеренной; о случайной же и речи не может быть, иначе пришлось бы называть гармониею и много-голосностью всякий шум и крик заговорившей разом толпы. И музыкальные памятники, и сочинения о музыке, написанные на Востоке и в Греции, доказывают, что в этих странах не только не употребляли гармонии и многоголосности, но даже не подозревали возможности ее, и тем менее законов и правил для их существования. Гармония создана Европою в продолжение средних веков; в многочисленных и глубоко ученых сочинениях об истории гармонии (т. е. многоголосности) давно уже прослежена во всей подробности полнейшая ее история: мы можем, на основании фактов, на этот раз уже не гадательных, а в самом деле критически достоверных, проследить историю гармонии шаг за шагом, так сказать, год за годом; мы знаем, в какое время и где именно начались попытки первоначальные и грубые; знаем по примерам, как трудно знакомился с этими попытками вкус всех европейских народов; знаем, каким образом производились усовершенствования по этой части; как медленно и туго шли успехи гармонической науки; знаем, что даже в XIII веке гармония находилась еще в пеленках первоначального младенчества. А нас хотят уверить, что еще в XI веке гармоническое искусство существовало в Греции в полном своем цвете, во всем богатстве развития и разветвления, до такой степени, что музыкальные сочинения могли быть располагаемы на несколько голосов. Не чудо ли это будет узнать, что в Греции уже в XI веке умели искусно и превосходно сочинять пение на несколько голосов, между тем, как в Европе, даже в XIII веке, едва-едва умели ладить с двумя или тремя голосами, и то еще самым варварским образом? Каким образом Западная Европа, заимствовавшая учителей и технику всех искусств из Римской империи, западной и восточной, забыла или не захотела взять оттуда одних только учителей и технику музыкального искусства? Или опять, если вследствие крестовых походов и долгих коммерческих сношений Западная Европа была в течение средних веков в теснейшей связи с Константинополем и, значит, могла слышать греческое пение и знать греческую гармонию (или многоголосность), то отчего же она пренебрегла этими готовыми результатами, которые не могли быть для нее секретны, и предпочла по какому-то капризу добиваться того же самого у себя дома, посредством тягостнейших и продолжительнейших усилий? Возможна ли такая странная капризность, такое ничем не объяснимое своенравие?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Заметки о демественном и троестрочном пении»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Заметки о демественном и троестрочном пении» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Заметки о демественном и троестрочном пении» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.