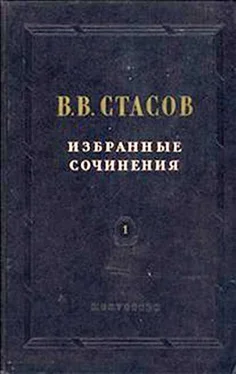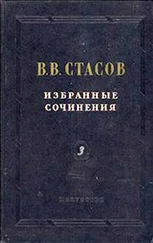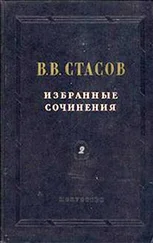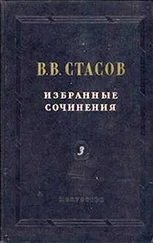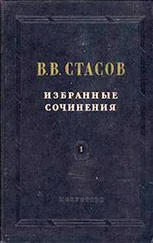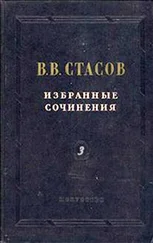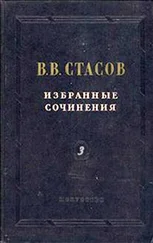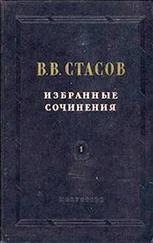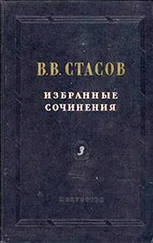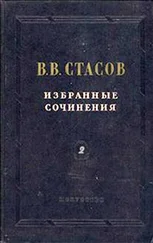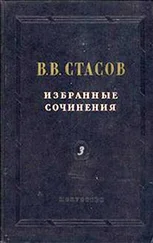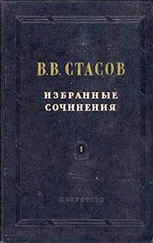Всеобщая уставная церковная мелодия для пения записана в греческих певческих книгах, мы можем прочитать ее в этих книгах; педаль, или исон, как всегдашний неизменный закон для пения церковного вообще, излагается в певческих учебниках, но нигде мы не находим следа того фиоритурного пения, которым щеголяли греческие доместики или лучшие из певцов. Не должно ли заключить из этого, что это пение никогда и не писалось в книгах, а, будучи плодом прихотливости и фантазии того или другого певца, быть может всего чаще импровизацией, — оставалось в памяти или воображении исполнителя и подчинялось единственно его минутной прихоти и артистическому вдохновению? Мы находим большое подтверждение этому предположению об импровизациях или капризных выходках певца-солиста во время пения правильного, уложенного, пения остального хора, — в манере восточного пения вообще, как мы знаем о том по рассказам путешественников о Востоке, по хорам цыган — этих бледных потомков древней Индии, и, наконец, по народной манере пения хоров у нас в России. Фиоритурная, причудливая импровизация одного певца-солиста, или, точнее, запевалы, во всех этих случаях играет важнейшую роль.
В отношении же церковного демественного пения мы видим в России некоторое сходство с Грецией, но гораздо более и несходства. Сходство заключается в роли запевалы, которую выполняет головщик или уставщик, так что в демественных многоголосных книгах мы ежеминутно встречаем выражение: «почин демеством», у каждого нового начала строки или стиха, и сверх того, даже в одноголосных не демественных книгах головщик или уставщик правого или левого клироса начинает один, а хор за ним подхватывает.
Но здесь кончается все сходство. Остальные пункты сравнения совершенно иные. Таким образом, во-первых, в русском церковном пении никогда не существовало педалей, несмотря на всю склонность России к восточному вкусу в искусствах, который до Петра Великого наложил печать на все ее произведения. Если даже положить, что педаль введена в Грецию в позднейшие времена существования византийской империи, все-таки остается непонятным, почему эта подробность пения осталась непринятою при многочисленных других заимствованиях России из Греции в области пения, продолжавшихся до времен царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Греческие учители и певцы не переставали приезжать к нам и учить наших певцов до позднейших времен допетровской России, и при всем том, однакоже, исон никогда не привился к нам: значит, он слишком противоречил народному чувству и духу; значит, Россия даже в предметах, близко касавшихся богослужения, отличала существенное от несущественного и, принимая великое и важное, отвергала то, что не носило на себе печати вечного и всеобщего. Таким образом, простое церковное русское пение не состояло, как в Греции, из мелодии и педали, но состояло все из одной мелодии, и сквозь всю историю нашу мы постоянно встречаемся с постоянными стараниями нашего духовенства и высших правительственных властей, выражавшимися на соборах, чтоб пение наше оставалось всегда и непременно — одноголосным. Во-вторых, из среды общего церковного пения у нас выделился особый род, под названием демественного, который не сливался с остальным пением, а образовал, так сказать, свой отдельный корпус, и стал на письме выражаться, в большинстве случаев, посредством особенных демественных знаков нотных. Знаки эти не особенного и не одновременного происхождения с азбукой певческой, служившей для пения простого, известного под именем знаменного или столпового: они (знамена, крюки) явно происхождения позднейшего, и постепенно, мало-помалу образовались из знаков простого или столпового пения. На этом основании мы принуждены притти к заключению, что и самое пение, выражаемое этими знаками, не особенного исключительного или древнейшего происхождения, а находится в точно таком же родстве с пением простым или столповым, стоит к нему в точно таком же отношении, как азбука демественная к азбуке столповой.
Но, естественно, рождается здесь вопрос: разве пение демественное не существовало в России до появления демественных знаков и демественных книг, подобных или равных тем, которые до сих пор сохранились? Отвечаем на это: конечно, существовало, и один из лучших признаков состоит в том, что слова: «демественник», «демество» и «демественное пение» не позднейшего происхождения, относятся не к XVI и XVII векам, но встречаются гораздо раньше, и, значит, соответствовали вещи, которая существовала несравненно раньше, чем эти два столетия. При свидетельствах летописей, мы нисколько не сомневаемся, что русские певцы переняли от греков манеру испещрять и изукрашивать уставное пение руладами и вставками своей фантазии, но мы не имеем нигде остатков этого древнего демественного или «по преимуществу певческого пения», и точно так же, как, говоря о греках, мы должны заключать, что это пение не писалось, а передавалось на память от одного другому искуснейшему певцу или прямо в виде импровизации выходило из его уст во время дирижирования остальным хором. Потому что ничем другим нельзя объяснить совершенного отсутствия демественных книг до конца XVI столетия, между тем как до нас дошли разнообразнейшие и многочисленные памятники русского церковного пения, начиная с XI века, и между тем как с XVI века книги с демественным пением вдруг, точно по всеобщему согласию или по особенной прихоти случая, появляются в весьма достаточном количестве.
Читать дальше