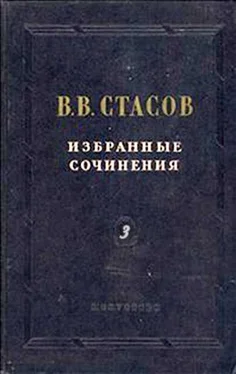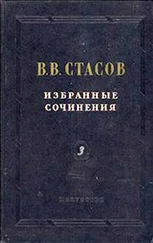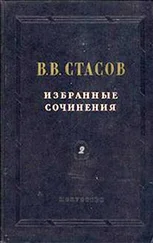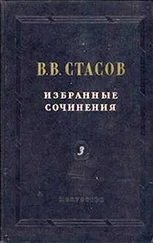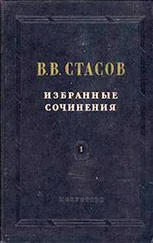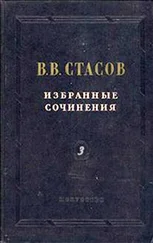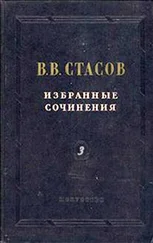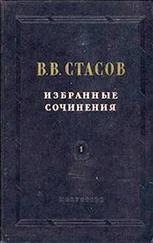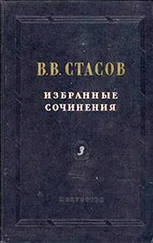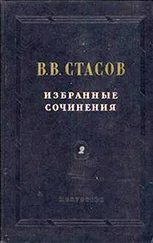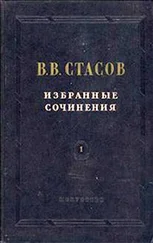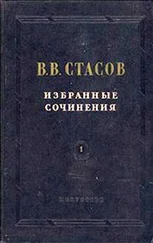Любопытную подробность находим мы в письме Шумана к тому же Фридриху Вику, от 2(14) мая 1844 года. Он восхваляет до небес великую княгиню Елену Павловну, у которой Клара играла однажды, за ее любезность и образованность, и прибавляет: «Мы с нею много говорили о том, не следует ли завести в Петербурге консерваторию, и что тогда она очень желала бы задержать нас здесь…» Вот как давно у великой княгини Елены Павловны носилась в голове идея об устройстве в России консерватории, идея, которая осуществилась лишь 18 лет позже, в 1862 году. Конечно, Шуман был никак не против этой идеи: он сам лишь за год перед тем поступил преподавателем фортепианной игры в Лейпцигскую консерваторию, открытую Мендельсоном в апреле 1843 года; значит, он еще не имел полного представления о значении и вреде или пользе консерваторий в наше время и еще ничуть не приходил к тому порицанию их, которое высказывали им всегда, вследствие ярких примеров перед глазами, Глинка и Лист. Но, во всяком случае мы узнаем теперь, что была одна такая минута, когда Шуман мог сделаться, и надолго, жителем Петербурга и, по всей вероятности, оказать крупное влияние на ход русской музыки и направление русских музыкантов. Однакоже в 1844 году это дело не состоялось, и Шуман еще надолго остался без самомалейшего влияния на нашу музыкальную школу.
Ю. К. Арнольд, видевший в 1844 году Шумана с его женой на музыкальном вечере у А. Ф. Львова, сообщает мне про них следующие любопытные подробности: «Клара Шуман играла в тот вечер квартет для фортепиано своего мужа, его же „Kreisleriana“ и некоторые другие пьесы. Она производила на нас, слушателей, огромное впечатление, хотя мы тогда уже начали привыкать к виртуозкам-фортепианисткам: в благотворительных концертах 30-х и 40-х годов довольно часто игрывала г-жа Калерджи (урожд. графиня Нессельроде, позже замужем за тайн. сов. Мухановым), а за год или за два до Клары Шуман концертировала в Петербурге знаменитая виолончелистка София Борер. Весь вечер Шуман был, по-всегдашнему, угрюм и молчалив. Он очень мало разговаривал; на вопросы графов Виельгорских и самого хозяина, А. Ф. Львова, он лишь тихо что-то промычал в ответ. С знаменитым скрипачом Моликом, только за несколько дней перед тем приехавшим в Петербург, у них завязалось, правда, нечто вроде разговора, но почти шопотом и без всякого оживления. Шуман все больше сидел в углу, около фортепиано (в середине зала стояли все пюпитры для исполнявшегося в тот вечер октета Мендельсона); он сидел, нагнувши голову, волосы у него свислись на лицо; выражение было сурово-задумчивое, губы будто насвистывают. С Шуманом, какого я видел в тот вечер, совершенно сходен лепной медальон в натуральную величину скульптора Дондорфа. Клара Шуман была немного поразговорчивее, отвечала за мужа. В фортепианном исполнении она выказала себя весьма великою художницею, с мужественною энергией и с женским инстинктом в Auffassung и исполнении, хотя ей всего было 25–26 лет. Но грациозною и симпатичною женщиной едва ли кто ее признавал. По-французски оба говорили на саксонском диалекте, а по-немецки, как ehrbare Leipziger».
Во время многих недель, проведенных им в Петербурге и Москве, Шуман остался совершенным «инкогнито» для музыкальной России. Глинка и Даргомыжский его не слыхали, ничего даже не знали о его присутствии. Кроме небольшого аристократического кружка, никто тогда даже не знал, что вот какой великий музыкант у нас в Петербурге в гостях (я это живо помню), никаких разговоров о нем не было. Концертов он не давал, нигде в публику не выступал, да даже большинство интересовавшихся у нас музыкой едва знали немногие (ничуть не лучшие, не капитальнейшие) фортепианные его сочинения. Здешние музыкальные учителя никому из учеников своих не давали играть его пьесы — исключение составлял, кажется, один только А. А. Герке; даже Гензельт, несмотря на всю свою дружбу с Шуманом, ни сам его никогда не играл, ни давал его играть своим бесчисленным ученикам и ученицам. И ничего не было в том мудреного: Шумана фортепианные сочинения были так гениальны, так новы, что мало кому тогда нравились. Даже Лист не осмеливался играть их в своих концертах — он сам это говорит в письме к Василевскому, биографу Шумана: «Я много раз имел такой неуспех с шумановскими пьесами и в частных домах, и в публичных концертах, что потерял кураж ставить их на свои афиши; притом же я часто имел слабость доверять составление своих концертных программ — другим!!..» Если уже Лист не в состоянии был втемяшить Шумана своим слушателям в 30-х и 40-х годах, то насколько же это было еще труднее другим! Капельмейстеры наши, в свою очередь, тоже нигде и никогда не исполняли инструментальных и хоровых сочинений Шумана; артисты и аматеры понятия не имели о его высокоталантливых романсах. Главным музыкальным богом тогда был, у «знатоков и музыкантов», в концерте и дома — все только Мендельсон, в театре — итальянцы, итальянцы и итальянцы. Поэтому капитальнейшие тогдашние наши музыкальные обер-доки, графы Виельгорские и Львов, милостиво приняли у себя в доме Шумана с его женой, обласкали их, осыпали учтивостями, представили ко двору, сыграли у себя (со значительными издержками) его симфонию и квартеты, но — на том все дело и кончилось. После отъезда Шумана его здесь тотчас же забыли самым основательным образом. Если бы этим «гениальным дилетантам», Виельгорским, Шуман нравился, если бы он был им понятен, им, конечно, стоило бы только сказать одно слово, и Шумана стали бы играть во всех концертах, пропагандировали бы, внушали бы изо всех сил публике. Но куда! «Гениальным дилетантам» было не до того. У них только и ушей и сердец было, что для Мендельсона и драгоценных, милых, любезных, несравненных итальянцев. Все прочее могло и подождать. Шуман и подождал целых десять лет.
Читать дальше