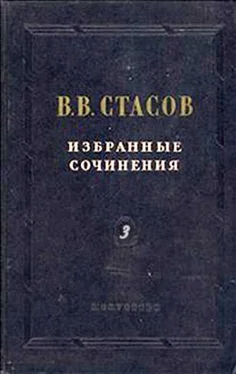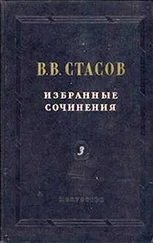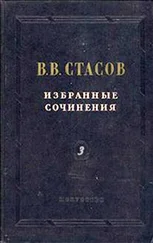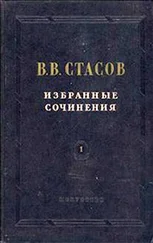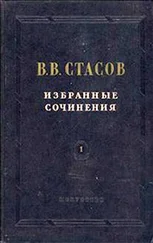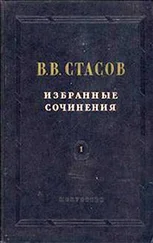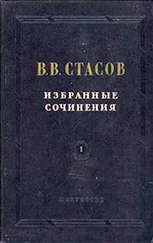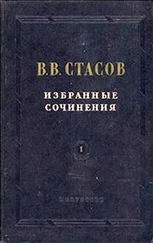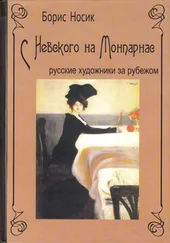Впоследствии, двенадцать лет позже, Крамской написал большую статью об Иванове (1880), где разбирал его натуру реформатора, его значение, составные части его таланта, рассматривал то, что внес Иванов в русское искусство нового: внутреннюю необходимость художественного создания — вместо прежнего произвола, глубокое изучение и передачу характеров — вместо прежнего легкомысленного игнорирования их; наконец, рассматривал причины неуспеха Иванова перед нашей публикой и ее полнейшего равнодушия к нему. Это последнее он объяснял «недостатком очаровательной внешности» в создании Иванова. Но, к удивлению, он не обратил здесь внимания на то, что публика могла оставаться недовольной Ивановым также и по другим причинам, начиная хоть с той, что его громадный, оригинальный талант стоял чересчур выше ее требований и пониманий, а также, что у Иванова существовали действительно некоторые художественные недочеты; как-то: известная доля «классичности» в композиции, неприятная барельефность, условная скученность действующих лиц, слишком неудовлетворительные краски и т. д.
Но когда, год спустя, начали появляться первые тетради «Рисунков Иванова к Ветхому и Новому завету», Крамской еще новый раз высказался о своем любимце. В предисловии к изданию Иванова, германский Археологический институт, заведывавший изданием в свет этих рисунков, по завещанию брата Иванова, Сергея, говорил, что рисунки Иванова «проникнуты духом совершенно самобытным, не имеющим ничего общего с произведениями немецких, французских и итальянских художников. Дух этот, мы полагаем, — прибавлял институт, — можно назвать „чисто русским“. „Надобно поверить в этом немцам, — замечал на это Крамской, — потому что какой же им интерес скрывать правду? Не скажут они — скажут французы, скажут, англичане, турки, наконец! Все знают нас в лицо, одни мы никогда себя не видали. Посмотрим же, что заключается в эскизах Иванова, столь полных, как говорят, „чисто русского духа“. И для нас, пока как и для иностранцев, это столь же ново и исключительно оригинально. Мы все подражали, и до такой степени к этому привыкли, что нам странно видеть что-либо хорошее и, в то же время, ни на что европейское не похожее. Перед нами, действительно, что-то невиданное; вы в недоумении — какому народу приписать создание этих эскизов? Со своей стороны, мы готовы предположить, что эти рисунки современны библии и евангелию, потому что в каждом из них до такой степени наивно, просто изображены сцены, фигуры до того типичны, бытовая обстановка при своей целесообразности кажется до такой степени древнею, что это решительно рисунки с натуры того времени. Всего же больше нас убеждает в том, что перед нами 2000-летняя древность, это — смесь изображений сверхъестественных с действительными: ангелы и видения такие странные, какие только и могли присниться и привидеться такому простому старцу, как Иосиф, или такому верующему, как первосвященник Захария. Эти ангелы, при реальности форм, и прозрачны, и сияют на манер изображений солнца у египтян или ассирийских божеств, знакомых нам по уцелевшим памятникам. В то же время сверхъестественные явления до такой степени перемешаны с действительными, что, глядя на рисунки, чувствуешь себя современником далекого детства человечества — полного мистического ночного страха и чудес, и реализма сверкающего солнечного дня. Современный взрослый человек решительно не может вообразить себе ничего подобного. Только хороший рисунок, сделанный опытной рукой, и заставляет нас предполагать, что это действительно современная подделка; но в таком случае — это гениально.“ Таких речей об Иванове русская публика ни от кого более не слыхала. И не мудрено. Иванов провел слишком глубокую черту в жизни Крамского. Вторым глубочайшим любимцем Крамского был — пейзажист Васильев. В моих статьях „Крамской по его статьям и письмам“ („Вестник Европы“, 1887 год) я довольно подробно рассказал личные сердечные отношения Крамского к этому 20-летнему юноше. Он беспредельно любил его как человека, но, вдобавок, считал его гениальным художником и глубоко перед ним преклонялся, даже считал, что многим обязан ему в своем техническом развитии. „Вы мне открыли, как писать надо, — говорил Крамской в письме к Васильеву, незадолго до его смерти, по поводу последней его картины „Крымский берег“. — Это что-то до такой степени самобытное и изолированное от всяких влияний, стоящее вне всего теперешнего движения искусства, что я могу сказать только одно: это еще не хорошо, т. е. не вполне хорошо, даже местами плохо, но это — гениально… Ваша картина меня раздавила окончательно. Я увидал, как надо писать. Это такая страшная и изумительная техника на горах и на небе, на соснах и кое-где ближе, что я стыжусь того, что мне иногда нравилось. Красок нет в картине. Передо мной величественный вид природы; я вижу леса, деревья, вижу облака, вижу камни, да еще не просто, а по ним ходит поэзия света, какая-то торжественная тишина, что-то глубоко задуманное, таинственное…“ „Развивался Васильев чрезвычайно быстро, — пишет Крамской Н. А. Александрову 11 августа 1877 года, — сначала в полной гармонии с Шишкиным, который имел на него влияние в то время (1868); но уже через год резко обозначились пункты разногласия относительно взгляда на натуру. И действительно, трудно найти две более исключающие друг друга натуры. Один, трезвый до материализма художник, лишенный даже признака какого-либо мистицизма, музыкальности в искусстве (как и все почти племя великоруссов), художник, которому недостает только макового зерна, чтобы стать вполне объективным; другой, весь субъективный, субъективный до того, что вначале не мог даже этюда сделать без того, чтобы не вложить какого-либо собственного чувства в изображение вещей совершенно неподвижных и мертвых. Понятно, что они скоро разошлись, не переставая, впрочем, наносить друг другу огорчения, не материального, разумеется, характера. К чести обоих надобно, однако, сказать, что действительное уважение друг к другу скоро опять восстановилось…“
Читать дальше