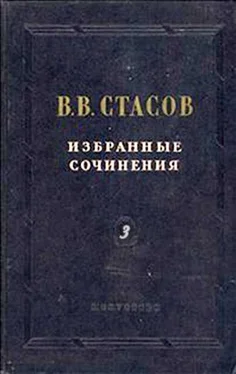Еще далее резоном особенных успехов Чайковского повсюду был тот, что его сочинения, хотя и очень талантливые и разнобразные, имели всего чаще характер преимущественно элегический, меланхолический, задумчивый и грустный. А для большинства народных масс этот элемент и в музыке, и в поэзии всегда очень симпатичен, мил и драгоценен.
Но, как бы ни было, великая распространенность и слава Чайковского были во многих отношениях совершенно справедливы и законны. Он был так талантлив, так сильно способен наполнять свою музыку изяществом и красотой и притом так сильно мог действовать на слушателя мастерством своей формы и тонкими совершенствами своей колоритной и элегантной инструментовки, что не мог не влиять необыкновенно сильно и обаятельно на большие массы слушателей.
Чайковский написал на своем веку необыкновенно много, как и его первоначальный учитель Антон Рубинштейн. Это происходило, во-первых, конечно, прежде всего, от его внутренней потребности, а во-вторых, от его, вполне «консерваторского» мнения, что кто истинный музыкант, тот не только может, но должен писать много. Кто много не пишет, тот еще не настоящий художник. На этом основании он даже и Глинку сильно корил и обзывал не настоящим музыкантом. В 1878 году Чайковский писал своей присяжной корреспондентке и чтительнице г-же Мекк: «Глинка написал удивительно мало. Он работал как дилетант, т. е. урывками, когда находило расположение духа. Как мы бы ни гордились Глинкой и его колоссальным талантом, надо признаться, что он не исполнил той задачи, которая лежала на нем… Что было бы, если б этот человек родился в другой среде, жил бы в других условиях, если бы он работал как артист, сознающий свою силу и свой долг довести развитие своего дарования до последней степени возможного совершенства, а не как дилетант, от нечего делать сочиняющий свою музыку…» Таким образом, Чайковский был не очень-то доволен Глинкой и находил его «не исполнившим еще своего долга, еще не развившим свое дарование до совершенства». Но, к удивлению, Чайковский в то же время был «вполне доволен и восхищен» не только Делибом, Визе и другими французскими композиторами, но даже профессором Московской консерватории К. К. Альбрехтом, в музыкальных сочинениях которого он находил «огромный талант». После всего этого, можно себе представить, как неприятны были Чайковскому члены балакиревского кружка. «Я счастлив, — писал Чайковский в 1878 году, — что не пошел по стопам моих русских собратий, которые при малейшем затруднении предпочитают отдыхать и откладывать. От этого, несмотря на сильные дарования, они пишут так мало и так по-дилетантски… Вдохновение — это гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, которые призывают ее… Нужно побеждать себя, чтобы не впасть в дилетантизм…» И Чайковский так и делал всю жизнь. Не ждал вдохновения, а «побеждал себя» и сочинял всякий день, чуть не всякий час.
В результате получилась громадная масса сочиненного, среди которого действительно очень замечательного, действительно очень крупного — не слишком много. Многописанием Чайковский, наверное, немало повредил себе: ослабил до некоторой степени свое великое творчество.
Замечательно, что, не взирая на всегдашнее свое недовольство балакиревским кружком, его направлением и его деятельностью, Чайковский почти все совершеннейшие свои вещи создал в то время, когда еще был в ближайшем соприкосновении с этим кружком, когда еще действовал как бы в одном с нею лагере и в одном с нею направлении. Лучшие создания Чайковского все программны, как и у членов балакиревского кружка, и Чайковский идет даже еще дальше. В одном из писем 1878 года он говорит своей собеседнице: «С нашей точки зрения, всякая музыка есть программная…» С этим нельзя согласиться: конечно, у всех сочинителей, даже нашего времени, есть немало сочинений вовсе непрограммных, но здесь выражается только главное настроение самого Чайковского. Из всего сочиненного им до последних месяцев его жизни, ничего нет выше его симфонических картин: «Ромео и Джульетта», «Буря» и «Франческа да Римини». Здесь высказались все главные элементы его музыкальной натуры: выражение глубокой, но тихой, без порывов, любви, чудесно поэтических настроений, в соединении с великолепно переданными картинами природы, то спокойной (море, в начале его поэмы «Буря»), то громадно возбужденной и бунтующей (вся середина в той же поэме) и дикий, ревущий, клокочущий в небе ураган, (в поэме «Франческа да Римини»). Против этих трех главных картин кажутся слабыми все прочие его симфонические творения. Один финал 2-й симфонии, на тему малороссийского «Журавля», приближается к ним по красоте и увлекательности (хотя и с отсутствием главнейшего их элемента — элемента любви). Четвертая симфония, по объяснению самого Чайковского, имеет в основе своей ту самую задачу, что и 5-я симфония Бетховена. Но при всей красивости музыки и великом мастерстве формы Чайковскому, по его натуре, было не под стать ворочать своими элегическими перстами такие колоссальные гранитные массы, какие двинул и водрузил у себя в симфонии Бетховен. Прекрасная, изящная, но мало оригинальная в настоящем случае музыка Чайковского столь же неудовлетворительно выразила здесь мировые задачи человечества, его будущности, его роковой судьбы, как красивая и миловидная «Danse macabre» Сен-Санса неудовлетворительно выразила ту гигантскую задачу, которую гениально выполнил в своей «Danse macabre» — Лист. Мне кажется, отношение параллельное.
Читать дальше