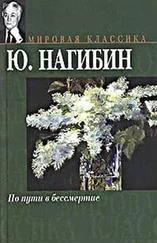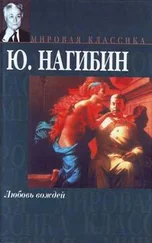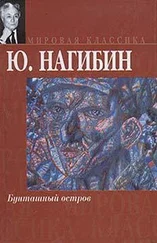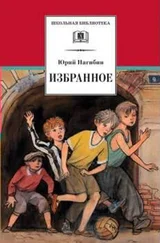Юрий Нагибин
Перечитывая друга…
Я читал эти «взрослые» повести Виктора Драгунского в рукописях, читал в журнальных публикациях, читал, когда они стали книгами, и сейчас вновь прочел в небольшом однотомнике, вышедшем в издательстве «Современник», с таким чувством, будто я их никогда не читал, до того свежо, чисто, «наперво» звучало каждое слово. Мне казалось, Драгунский вернулся из таинственной тьмы — где-то там поняли: нельзя забирать до срока человека, столь мощно заряженного жизнью, умеющего жить так расточительно и жадно, так широко и сосредоточенно, так безмятежно и целеустремленно. До чего же скудный век был отмерен этой нестареющей душе — пятьдесят восемь…
Но если представить, сколько успел сделать Драгунский в короткий срок, сколько лихих троек загнать, то кажется, что он прожил несколько жизней: в одной жизни он был шорником, лодочником, токарем, в другой — цирковым клоуном, актером кино и театра, руководителем замечательного сатирического ансамбля «Синяя птичка», в третьей — фельетонистом «Крокодила», одним из лучших детских писателей, автором известных «Денискиных рассказов», превосходным — нежным, добрым и грустным — писателем для взрослых. Конечно, все это так и не так: Драгунский прожил одну на редкость многообразную, насыщенную, напряженную и цельную жизнь, и во всех своих ипостасях оставался радостно и ярко талантлив.
И мне думается, закономерно пиком его пестрой, бурной жизни оказалось писательское творчество. Возможно, Виктор Драгунский и сам не до конца понимал это. Каждому делу, которое его захватывало, он отдавался до конца и с равным уважением относился к любой из многих своих профессий. Похоже, с речным делом он малость недобрал, и в анкете «Пионерской правды» на вопрос, кем бы вы хотели быть, если б не были писателем, искренне ответил: бакенщиком. Несомненно, он был бы превосходным бакенщиком, все-таки я уверен, что, загляни Драгунский в себя поглубже, его ответ звучал бы иначе: «Если б я не был писателем, то хотел бы им быть». Ибо только литературное творчество могло вобрать в себя весь его громадный жизненный опыт, знание и понимание людей, суммировать все виденное, перечувствованное и наделить жизнью вечной. Да так оно и сталось.
Меня не оставляет впечатление, что взрослые повести В. Драгунского автобиографичны. На самом же деле, хотя многое тут взято из жизни автора, вымысел преобладает над автобиографией. Но что делать, если душой я отказываюсь этому верить? Мне думается, причина в авторской интонации, в той особой, доверительной интонации, что делает прозу Драгунского правдивой, как исповедь. Драгунский будто говорит с тобой с глазу на глаз, искренне, задушевно, часто взволнованно, а иногда патетически — он и этого не боится, ибо слова его из сердца. Он считает тебя умным, добрым, все понимающим собеседником, ему не страшно показаться сентиментальным, наивным, растроганным до беспомощности. И эта интонация завораживает.
Среди литературоведческих работ последнего времени, исследующих отдельные компоненты прозы, мне особенно приглянулась одна, посвященная ритму прозы. Но как ни важен ритм, авторская интонация куда важнее. Мне кажется, она сродни тембру. Бывают сильные голоса с большим диапазоном, с отличными верхами и низами, но бестембровые. А вот об иных голосах говорят: окрашенные. Пример окрашенного голоса — неповторимое меццо-сопрано Обуховой, ее узнаешь с первой же ноты. У покойного Лемешева был не такой уж большой голос, но дивный тембр придавал ему ни с чем не сравнимое очарование. И никто во всем мире не заменит Лемешева. Интонацию в прозе точно так же нельзя приобрести искусственно, как и тембр. Ее можно лишь имитировать, но чуткий читатель сразу угадает подделку. Надо думать, интонация как-то связана с природой человека, с его глубинной сутью. Драгунский очень добрый человек, он любит жизнь, людей, пуще всего малых и слабых. Он не преминет понюхать голову спящего ребенка, так чудесно пахнущую воробьями. И, придя к любимой, почти потерянной женщине, позабудет на миг о своей боли, склонившись над кроваткой ее маленького сына.
Ловлю себя на том, что вновь отождествляю Виктора Драгунского с его героями, ведь воробьиный запах учуял Митя Королев, а склонялся над спящим малышом грустный клоун Ветров…
Любопытно, что эта добрая, глубоко человечная интонация не пропадает и когда Драгунский пишет о чем-то глубоко ему отвратительном (в книгу помимо двух повестей входит несколько рассказов): о низкой, убивающей все живое корысти («Брезент»), о бездушии тех, кто забыл войну («Для памяти»), о душевном хамстве («Странное пятно на потолке» и «Далекая Шура»), В одном случае сохранить эту интонацию помогает Драгунскому присутствие в рассказе хороших обиженных людей, которых он любит и за честь которых борется оружием насмешки и сарказма, в другом — сама правда жизни, которую попирают дурные, низкие люди.
Читать дальше