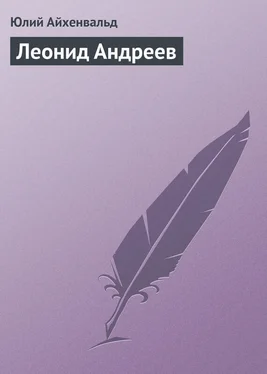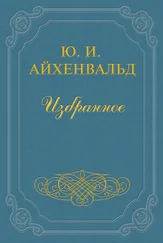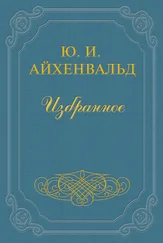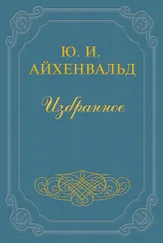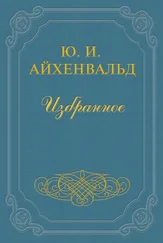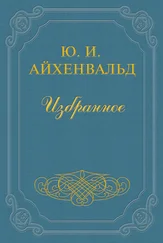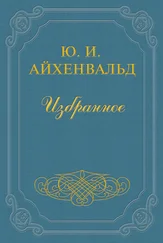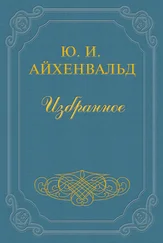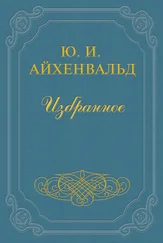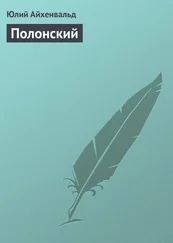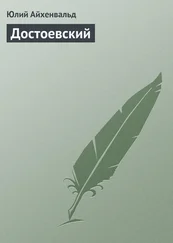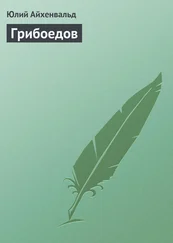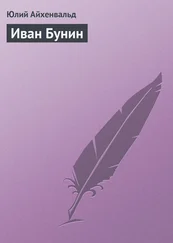Дурной и неостроумный сатирик, Андреев чужд и лиризму. В своих построениях отделяясь от самого себя, от живой правды своего реального естества, но в то же время собою связанный и принужденный, он и не может быть лириком. Поразительно, до какой степени он вообще не поэт. Он риторичен даже и там, где хочет вкладывать в уста своим персонажам речи нежные и ласковые. И влюбленный художник говорит своей возлюбленной: «Я очарую тебя светлой сказкой; яркими мечтами обовью я тебя, как розами, моя царица», – не похоже ли это на махровые бумажные розы, которых вообще немало в творчестве Андреева? Между тем от кого же, как не от художника, да еще влюбленного, можно было бы ожидать, чтобы его ласки и мечты не были так избиты, не были так сходны с приложениями к «Ниве», как сходны с ними все эти грезы Человека о белых мраморных виллах в роще лимонов и кипарисов, о норвежском замке и золотых кубках, из которых пили древние викинги и теоретически пьют современные беллетристы?..
Нередко Андреев разностильно перемежает реалистический и символический моменты, быт и мистику. Делает он это именно вперемежку, без синтеза и цельности, потому что уж если он вообще что-нибудь умеет, так это именно – анализировать, расслоять, но не собирать. И поэтический, и философский синтез одинаково лежат за пределами его компетенции.
Как философ, автор хочет понять жизнь под знаком Некоего в сером, но самая тайна у него разговорчива, самое молчание словоохотливо, и все эти загадочные существа, охраняющие входы, со свечами и мечами в десницах, говорят ритмично, красиво, риторично и, к сожалению, слишком напоминают самого Андреева. У Некоего в сером философия так примитивна и бедна, что иной раз подозреваешь, не кроется ли под его загадочной пеленою умный гимназист. Он, таинственный, великий, божественный, только и говорит что о счастье или несчастье – между тем, если бы он действительно был тот Некто, которого имеет в виду Леонид Андреев, он должен был бы стоять неизмеримо и несоизмеримо выше этих ничтожных человеческих мерок счастья или несчастья – он должен был бы их совсем не понимать. У Андреева Некто думает как человек, ничем существенным от последнего не отличается. С таким Некто можно и потягаться, и договориться. Андреевский Некто не только серый, но и узкий. Автор из своего Человека незаконно, нетипично сделал позитивиста, но позитивистом оказался у него и Некто, и оба шествуют они в одной плоскости – именно в плоскости…
Над нею не подымается и «Анатэма». Пусть все там звучит в выспреннем тоне, торжественной декламацией, но жизнь не становится выше от того, что ее поднимают на ходули. Сам Анатэма ничтожен; этот бес, поистине – мелкий бес, какой-то Передонов из преисподней. И его личность раздваивается. Если это – дьявол, то ему не нужно спрашивать имени Бога, имени добра – он его знает, падший ангел, сам некогда живший в лоне Бога, Его имевший своею родиной; человек не знает имени и истины, но дьявол их знает и как раз потому на них ополчается. Непонятна любознательность Анатэмы. Если же это – человек, то ведь последний не ползает на брюхе, не пресмыкается, не играет с Богом: он или верит, или бунтует, или попросту не знает, но, во всяком случае, у него нет хитрости Анатэмы. И в образе последнего перемешано столько противоположных элементов, дана такая ужасающая путаница, что даже трудно говорить о нем, как о цельном и законченном существе.
Как бы то ни было, по замыслу Андреева, именно дьявол создает Давида Лейзера, или того, чьим псевдонимом является Давид. Дьявол провоцирует этим человечество против Бога. Но во имя чего? Не во имя бунта ради бунта, а для того, чтобы вернуть истину людям, чтобы заставить Добро проявить и назвать себя, чтобы Бог стал Добром. Однако почему об этом заботится дьявол? Что ему до того, чтобы истина засияла над людьми? И с каких пор дьявол, сам нуждающийся в адвокате, стал адвокатом человечества? Затем, разве ему то самое кажется несправедливостью и злом, что и нам, людям, – разве одною мерою мерят истину высшие силы и бедная мысль человеческая?
Наконец, вопреки идее Андреева на примере Давида Лейзера вовсе не сказалось бессилие любви. Дело Давида не кончено и кончиться не может. Физическая смерть великого еврея не есть его духовная кончина. Любовь бессмертна. Она не может быть бессильной, она – сила уже тем, что существует и, однажды начавшись, побеждает времена и сроки. И Давид Лейзер, когда-то радовавший людей, продолжает радовать их и теперь, и всякая душа принадлежит ему, ибо «всякая душа – христианка». В чем же его крушение, в чем его бессилие? Это ли не победа – совпасть с извечной и общей категорией духа, назваться одинаково с нею? Пусть, по концепции Андреева, дьявол продолжает дело Христа и воссел на Его гробнице, чтобы оттуда именем Его зажигать ненависть и убийство, – но ведь сам же автор устами охраняющего входы говорит, что, погибший в числах, мертвый в мере и весах, Давид достиг бессмертия в бессмертии огня. И в этот Огонь веруют люди; сами обреченные мере и весам, существа с эвклидовским умом, они, однако, своей душою принимают и понимают безмерное, невесомое и несказанное и оттого не верят, чтобы последней и безнадежной смертью умер Давид Лейзер. Давид воскрес, воистину воскрес. И то, что побиение камнями Давида, разочарование людей в радующем людей, Андреев счел бессилием любви, – это обнаруживает в нем поразительную недостаточность понимания. Вообще, идеи, на которые он притязает, так велики, а сам он так мал, что стоит лишь у подножия их горы. И в самой манере подходить к вечным вопросам и решать их есть у него опять что-то некультурное, слышится какая-то ограниченность и тот привкус дурного тона, который вообще свойствен его творчеству.
Читать дальше