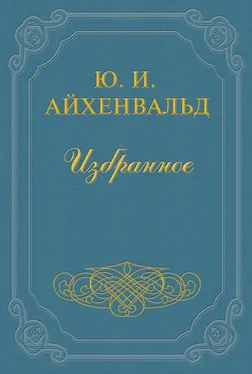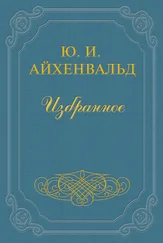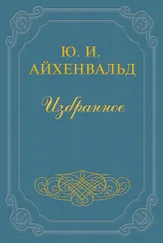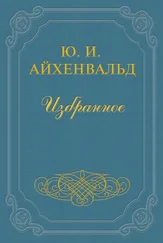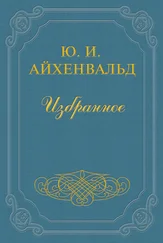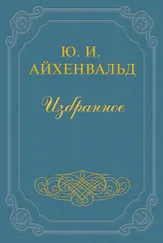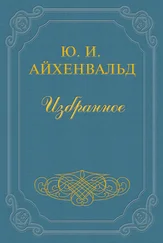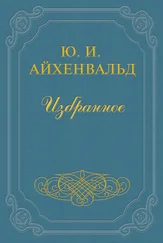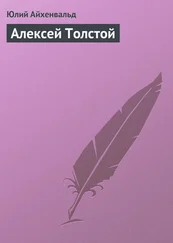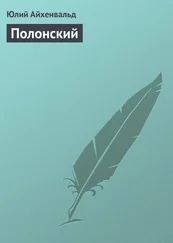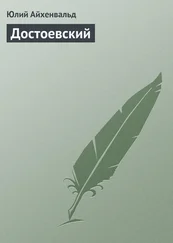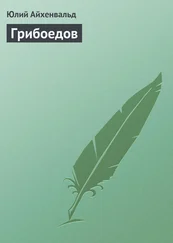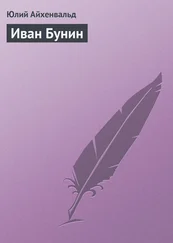Но жизнедавец и пестун жизни от самых истоков ее, Толстой в неразрывной связи с этим много думал и много написал о смерти. Он так часто и близко видел ее, она так часто возвращается в его художественных произведениях, и страх смерти является жизненным нервом его морали. Единственная глава, которую он в «Анне Карениной» озаглавил, – это Смерть. И особо он создал «Три смерти» и «Смерть Ивана Ильича». Он вообще изумительно, вызывая почти суеверный трепет у читателей, передает ощущения умирающего. Что такое жизнь, это показал он и в смерти. От первого крика новорожденного и вплоть до могилы провожает он своих героев. Силой дивинации, вдохновенной догадки, он, живой, так близко приник к смерти, как это лишь возможно тому, кто сам – еще в рамках бытия, и он приблизился к самому краю человеческого. И кажется, еще одно усилие, еще одно последнее усилие – и слово мировой загадки будет найдено, и тайна творения будет раскрыта. Его психология смерти проникнута тем исключительным, толстовским правдоподобием, той несомненной правдой, которой нельзя противиться: разве можно допустить, что Андрей Болконский в предсмертные минуты своего бреда и своих умиленных просветлений испытывал что-нибудь другое – не то, что говорит нам Толстой, вещий провидец последних тайн?
Умирает Иван Ильич, барахтается «в черном мешке» смерти, – он это знает наверное, но просто не понимает, никак не может понять этого. Правда, в школе он заучил силлогизм о смертности Кая, но ведь то был Кай, человек вообще, а он, Иван Ильич, был не Кай и не вообще человек, а «всегда был совсем, совсем особенное от всех других существ; он был Ваня, с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери?» Но Кай в индивидуальном облике Ивана Ильича умирает со своими мячиками, с папой и мамой… Однако в последнее мгновение вместо смерти ощутил он свет, и, когда живые произнесли над ним: «кончено», он понял, что это кончена не жизнь, а смерть. Ибо смертью является вся эта наша пошлая, мелкая, невнимательная жизнь, смертью является все это бремя ненужных разговоров, одежда и обстановка, весь этот внешний человек. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная». Не только те мертвые души, великолепно похороненные, «с далеким подобием улыбки», с далеким подобием всего человеческого, те бездушные сановники-тюремщики из «Воскресения», которые, сами мертвые, хоронят живых (это еще ужаснее, чем когда мертвые хоронят мертвых), – но все мы не живем в своей жизни, и чем дальше мы от детства, этого подлинного носителя природы и правды, тем мы ближе к нравственной смерти. И Толстой пристально наблюдает, как борется в нас внешний человек с внутренним. Часто первый берет нас в свою полную власть, как он завладел Стивой Облонским, – но княжна Марья испытывает «высокое страдание души, тяготящейся телом»; но Пьер, взятый в плен, смеется над тем, что его, его бессмертную душу, думают держать в плену, ее хотят запереть в балаган из досок; но князь Андрей, слушая пение Наташи, готов плакать от живо сознанной им «страшной противоположности между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем он был сам и даже была она (Наташа)». Да, Толстой, с такой непревзойденной глубиною описавший душевные состояния человека именно в неразрывной связи с телесностью, «тайновидец плоти», Толстой, в известном смысле Рубенс русской литературы, – он в своих завершающих созерцаниях пришел к духу, к чистейшему платонизму, и в освобождении от тела, в этом выходе из видимой природы, в смерти, познал спасение. Душе тесно в теле. Или это не противоречит натурализму, потому что ведь и смерть натуральна? Да и, в конечном счете, может быть, и сама природа – дух? И мир не вещь?
От бремени вещей и внешнего, от земной тягости, от всяческого плена освобождает нас смерть. Она – благо, потому что избавляет от необходимости жить, т. е. не любить или любить любовью разрозненной. Жизнь не может быть любовью сплошной. А в частичности любви заключается грех. Его, но только до некоторой степени, преодолевает не обремененный внешностью и вещами, почти исключительно внутренний, в круглый облик мира своей круглотою входящий Платон Каратаев; он олицетворяет собою и любовь круглую, беспрерывную, безустанную, но для того, чтобы она достигала своего предельного совершенства и завершенности, своей последней круглоты, на нем должен был разрядить свое бездушное ружье французский солдат. Правда, эта каратаевская любовь ко всему, беспричинное и беспредельное благоволение, как часто показывает Толстой, в своем истоке рождается в человеке из горячей любви к самому себе, из чувства собственного счастья. Любовь к другим – от любви к себе. В любви сплошной сливаются ее объект и субъект. Человек любит в себе то, что в нем любят люди, – свое хорошее. Это испытал Левин, когда полюбила его Кити и он получил для себя огромное значение и важность; это испытал и Оленин, чувствуя в себе безудержное счастье и любовь ко всему; об этом, об этой «беспредметной силе любви», ищущей для себя предмета, говорят многие герои Толстого. Любовь к другим, когда-то сказывавшаяся в горячей юной влюбленности и самовлюбленности, в жажде счастья, приходит к радостному самоотвержению. Это – явления одного порядка. Не обеднение, а обогащение – всякое дело любви, и чем больше мы отдаем, тем обильнее становится наш внутренний мир, и в конце концов одна индивидуальность так в подвиге своей жертвы переносится в другую, что теряется различие между ними и на деле торжествует вселенское Tat twam asi. «Жив Никита – значит, жив и я», – говорит умирающий, отдавая свою жизнь другому. Вот силлогизм, продиктованный живою логикой любви. И так замыкается круглая линия мира, вечное кольцо бытия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу