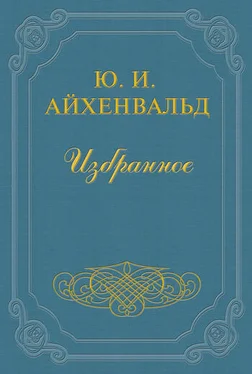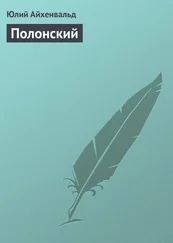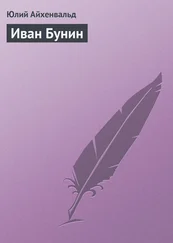Но Чехов показал хозяйство не только в его обыденных низинах, не только в его чичиковской неприглядности – он его нарисовал и в ореоле кровавом, в отблеске его зловещих возможностей. Аксинья из «Оврага» – это воплощенное хозяйство в его трагизме, это кульминация деловитости в ее ужасе. Аксинья – хозяйка-преступница. «Красивое, гордое животное», «змея, выглядывающая из молодой ржи», она рано встает, поздно ложится и весь день бегает в погреба, амбары и лавку, гремя ключами; и ради них, ради этих ключей, ради денег, она сожгла кипятком ребенка Липы, единственное достояние кроткой, безответной, бесхозяйственной женщины, – и после этого «послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве», от какого, быть может, еще никогда не содрогалось и сердце русского читателя… И, обваренный кипятком, маленький Никифор, душа которого носится вверху, около звезд, расскажет Богу, что творится на суетной земле, что делает на ней хозяйство. К тому же в конце концов хозяйство гибнет; оно распадается – все равно, в поэтической ли форме сада или в грязной лавке Цыбукина, который в конце своей темной торгашеской жизни не умеет отличать настоящих рублей от фальшивых, подаренных ему родным сыном. В конце хозяйственной жизни, при ее тусклом и неправедном свете, нельзя отличить истины от лжи. Оттого лишние люди и не этим жалким светочем руководятся в своем бездомном существовании. И всем завещают они освободить свою душу от мелочных забот, от бессмертной пошлости и хозяйственного сора; печально уходя из ставшего чужим вишневого сада, изгнанники этого белого рая, они оставляют глубокий завет – бросить в колодезь ключи от хозяйства.
Непрактичные и неспособные к делу, лишние люди Чехова любят слова – теплые, высокие, хорошие слова, которые живут в каждой человеческой груди, но стыдливо прячутся, потому что окружающая жизнь примет их удивленно и холодно: ей довольно слов только будничных и обыкновенных. Между тем хочется говорить. Хочется говорить о чем-нибудь вечном и серьезном, «о Шиллере, о славе, о любви». Душа взволнована и жаждет слова. Из рамок временного и низменного стремится она к высокому: это – один из обычных мотивов чеховской музы. И он слышится не столько в тех умных разговорах и речах, которые нередко встречаются на страницах у Чехова, не всегда глубокие и оригинальные, – сколько в общем тоне идеализма, который звучит в сердцах его излюбленных героев.
Но в чеховском городе, среди людей, «говорящих свою чепуху» и записывающих свои мысли в жалобную книгу, книгу мудрости обывателей, – в городе, где когда-то «было такое поэтическое венчание, а потом какие дураки! какие дети!» – с кем же можно говорить о Шиллере, о славе, о любви? В пошлом и мертвом царстве кто же отзовется на такой разговор? Для того чтобы удовлетворить свою тоску по возвышенной беседе, свое желание говорить и слышать великие слова, надо уйти от здоровых и счастливых, надо уйти от нормальных в палату N 6. Только там, среди безумных и несчастных, доктор Андрей Ефимович, которому часто снились умные люди и беседы, говорил и слышал то, что нужно человеческому духу; только там, в зловещей палате кошмара и страдания, нашел он сердце и великодушие, которых не было в городе; и из одних безумных, но благородных уст изливались там пламенные речи «о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих каждую минуту о тупости и жестокости насильников», и получалось «беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще недопетых песен».
И Коврин тоже сетовал, что его лишили счастья безумия. Он упрекал своих родных, что его лечили, что поэтому исчезли для него экстаз и вдохновение и перестал к нему являться в рамке смерча бледный черный монах со скрещенными руками на груди и, в благословенной галлюцинации, перестал говорить ему дивные речи о том, что он, Коврин, гениален, что он бессмертен, что великий удел ожидает человечество. Коврин хотел безумия, искал миража. Правда, в свои предсмертные мгновения он возжаждал нормального, простого, «он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, звал жизнь, которая была так прекрасна».
И Чехов тоже звал жизнь, и для него она тоже была прекрасна. В этом заключается его благородное своеобразие. Писатель сумерек, он страстно любил солнце, и в мир пришел он, говоря словами поэта, чтобы видеть это солнце и синий кругозор. Он не брюзга и не пессимист. С печалью он как-то соединяет затаенную, застенчивую радость жизни, и она переливается в его произведениях, и никто тоньше его не понимал и не чувствовал всего, что есть на земле поэтичного и отрадного. В лунном свете меланхолии, в ее задумчивом колорите изобразил он мир, но мир приобрел от этого только новую красоту. Ведь «так хорош и мягок лунный свет», и чарует даже его «колыбель» – кладбище с белыми крестами и памятниками; на кладбище «в глубоком смирении смотрят с неба звезды, сонные деревья склоняют свои ветки над белым, и здесь нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную». И среди могил думается о прекрасном, о живом: «сколько здесь зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке, и белеют уже не куски мрамора, а прекрасные тела, которые стыдливо прячутся в тени деревьев…»
Читать дальше