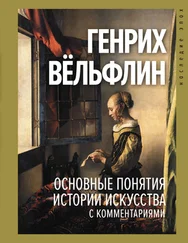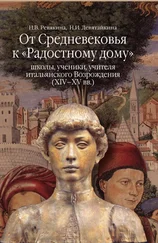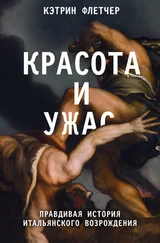Таким образом, классическое искусство можно сравнить с развалинами никогда не бывшего вполне законченным строения, первоначальную форму которого приходится восстанавливать на основании рассеянных далеко друг от друга обломков и страдающих неполнотой сведений, и, быть может, совсем даже не неверно утверждение, что никакая эпоха во всей истории итальянского искусства не известна нам столь мало, как золотой его период.

1. Рафаэль. Афинская школа. Ватикан.

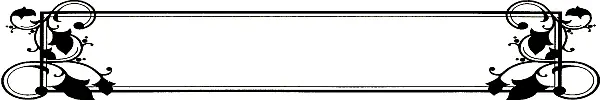
У истоков итальянской живописи стоит Джотто. Это он развязал искусству язык. То, что написано им, наделено даром речи, и его повествования переживаются нами. Джотто осваивает широкие просторы человеческого восприятия, он изображает библейские повествования и легенды о святых, и всякий раз это становится живым, убедительным событием. Эпизод ухватывается им в полном его объеме, и вся сцена преподносится нам с полнотою впечатления от окружающей обстановки — так, как она и должна представляться нашему взору. Джотто перенимает тот исполненный сердечности подход к истолкованию повествований священной истории с наделением их задушевными черточками, который доводилось в те времена встречать у проповедников и поэтов, принадлежавших к направлению св. Франциска. Однако существенная часть вклада Джотто не в поэтической изобретательности, но в художественном изображении, в придании зримого облика тому, что прежде никто не изображал. Его взор был открыт навстречу выразительному в явлении, и, возможно, никогда живопись не расширяла свои выразительные возможности так значительно за один прием, как это произошло при нем. Однако Джотто не следует представлять каким-то христианским романтиком, как бы не выпускающим из рук томик сердечных излияний какого-нибудь францисканского монаха [3] Г. Вёльфлин обыгрывает название труда Г. В. Вакенродера «Сердечные излияния монашествующего любителя искусств», Берлин, 1797, являющегося классическим для эпохи немецкого романтического возрождения. — Прим. из английского перевода. Прим. перев.
, а его искусство — расцветшим от дыхания той великой любви, с которой святой из Ассизи свел небо на землю, а мир превратил в небо. Джотто вовсе не мечтатель, но человек действительности; он не лирик, но наблюдатель: как художник, он никогда не распалял себя до захлестывающей с головой выразительности, но всегда говорил веско и отчетливо.
Что касается глубины восприятия и силы страсти, то здесь Джотто будет превзойден другими. Скульптор Джованни Пизано более душевен в своем капризном материале, чем художник Джотто. Нигде история Благовещения не преподается в духе эпохи с большей нежностью, чем то было сделано Джованни на рельефе кафедры [церкви Сант Андреа] в Пистойе, а в его исполненных страстности сценах нас опаляет горячее дыхание Данте. Однако это-то и было пагубой для Пизано. В своей выразительности он ниспровергает сам себя. Чувственное выражение прямо-таки истребляет телесную сторону, так что здесь искусство обрекается на вырождение.
Джотто спокойнее, холоднее, умереннее. Он неизмеримо популярнее, поскольку понять его в состоянии каждый. Все грубовато-народное ему куда ближе, нежели утонченное. Постоянно сохраняющий серьезность и устремленный на все значительное, он ищет действенность своего искусства в ясности, а не в изяществе линии. В глаза бросается то, что в нем нет и следа мелодичных линейных прорисовок одеяний, ритмически-энергичной поступи и позы, являвшихся элементами стиля того времени. В сопоставлении с Джованни Пизано он тяжеловесен, а с Андреа Пизано, мастером бронзовых дверей Флорентийского баптистерия — просто уродлив. Изображение замерших в объятии женщин и рядом с ними — служанки-провожатой на принадлежащей Андреа «Встрече Марии с Елизаветой» подобно песне, у Джотто же обрисовка чрезвычайно жестка, но притом в высшей степени выразительна. Незабываем абрис его Елизаветы (Падуя, Капелла дель Арена), склонившейся в поклоне и в то же время заглядывающей Марии в глаза; в случае же Андреа Пизано остается лишь воспоминание об изящном волнении и созвучии изогнутых линий.
Читать дальше
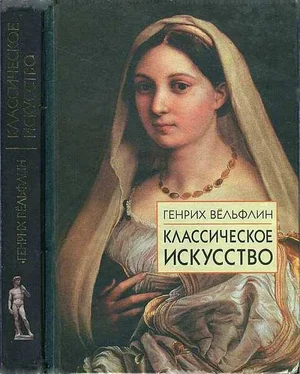


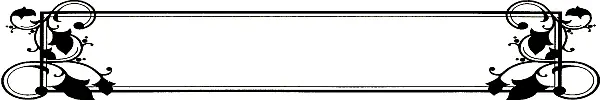
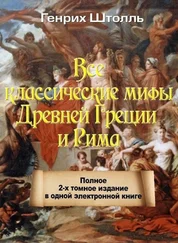

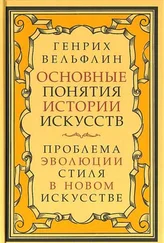
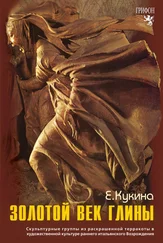


![Кэтрин Флетчер - Красота и ужас. Правдивая история итальянского Возрождения [litres]](/books/385617/ketrin-fletcher-krasota-i-uzhas-pravdivaya-istoriya-i-thumb.webp)