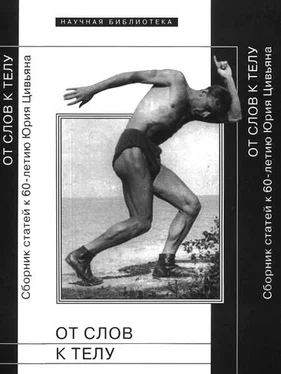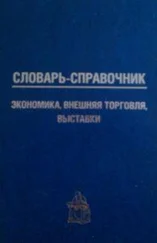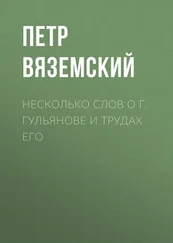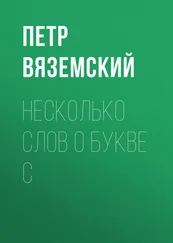«— Ты, о, Россия! Сия твоя, Всесладостная армония здесь совокупляется… Что мы зрим?.. Одесную, — он показал рукой на царицу Екатерину, — порфироносная жена, аки Семирамида вавилонская, сосуд, источающий матернее всем подданным усердие… Ошуюю! — на Меншикова, Толстого и других министров и сенаторов, — герои, сыны славы, украшенные добродетелями…
О, Россия, верх твой позлащен ярче солнца, кому ж уподоблю героя, сделавшего все сие… Отцу отечества… — указал он на Петра.
Все повернулись, смотря на Петра.
Петр взмахнул маршальским жезлом…
Грянула музыка…
К Петру со всех сторон побежали лакеи с подносами.
Петр взял поднос и с салфеткой на плече стал подносить бокалы с вином гостям: царице Екатерине, герцогу Голштинскому, князю Меншикову, графу Толстому и другим.
— Виват Петру Алексеевичу! Отцу отечества! Императору всероссийскому! — кричали гости, поднимая бокалы…
Гремела музыка…
За окном войска кричали:
— Ура!!!
Палили из пушек Петропавловской крепости» [17] Там же. С. 127–128. Можно предположить сознательную перекличку решения финальных эпизодов сценария с повестью Ю. Н. Тынянова «Восковая персона» (1930) о последних днях жизни Петра и событиях, следующих за его кончиной. Помимо сходной трактовки окружения Петра (Меншиков, Ягужинский, Екатерина), параллельно этой линии развивается вторая — проданного в кунсткамеру в качестве «монстра» служителя Якова. В финале Яков вместе с «гулящим человеком» Иванком Жмакиным покидает кунсткамеру и подается «на Дон, на вольные земли». В фильме имеется чрезвычайно похожая линия Федьки, дворового человека князя Буйносова, затем последовательно солдата, каторжника и, наконец, разбойника. Учитывая взаимный (и достаточно ревнивый) интерес обоих писателей друг к другу, трудно представить, что А. Н. Толстому не была известна повесть Тынянова.
.
Начало сценарной работы совпадает с завершением съемок «Чапаева» (1934) и «Юности Максима» (1934) на той же студии «Ленфильм»; съемки «Петра» идут параллельно с «Бежиным лугом» (1935–1937) и «Партийным билетом» (1935–1936); несколько ранее начинается и завершается съемочный период «Аэрограда» (1935) и «Подруг» (1935) — совершенно иной контекстуальный ряд, чем историко-биографические и оборонные фильмы 1938–1939 годов.
Общая коллизия сюжетной модели советского кино 1934–1935 годов состоит в том, что пафос бесконечного личностного становления человека в новых социальных условиях, открывшийся с приходом звука в «Путевке в жизнь» (1931) и продолжившийся в ряде от «Моей родины» (1933) и «Окраины» (1933) до «Веселых ребят» (1934) и «Юности Максима» (1934), сталкивается с конечностью его социального созревания, его социальной функции.
Изначально сериальная структура «Петра» и порождена как раз сюжетом становления — недаром на ранних этапах работы над сценарием в какой-то момент возник вариант трехсерийного фильма, где действие начиналось с юности царя. Отсюда же и совершенно несвойственная каноническим персонажам «историко-биографического фильма» следующего периода эксцентричность героя. Петр — революционер, переворачивающий, выворачивающий наизнанку привычный мир. Родство героя Николая Симонова с ключевыми экранными персонажами первой половины 30-х опознается уже по улыбке. (Мейерхольд отмечал, что «Путевка в жизнь» держится на двух улыбках — Баталова в роли воспитателя Сергеева и Мустафы, сыгранного Йываном Кырлей [18] Железнов П. Голосом революции он пел от радости // Исиметов М. И. Йыван Кырля: Очерк жизни и творчества. Йошкар-Ола: Марийское книжное изд-во, 2003. С. 140.
. Сюда же относится знаменитая улыбка героев Николая Боголюбова от «Окраины» до «Великого гражданина», лукавый прищур Максима — Бориса Чиркова или ухмылка Чапаева — Бориса Бабочкина. Карнавально-эксцентрическая природа экранных героев этого типа идет по возрастающей линии вплоть до «Ленина в Октябре» (1937), где вождя победоносного пролетариата играет Борис Щукин, прославившийся исполнением роли Тартальи в вахтанговской «Принцессе Турандот».)
Главная задача героя — создать новый мир будущего — «парадиз» (в «Петре»), Аэроград (в одноименном фильме), устроить «такую жизнь — помирать не надо» (в «Чапаеве»), Близость не только текстов, но даже мизансцен в диалоге Чапаева с Петькой накануне «психической атаки» и разговора Петра с Меншиковым о будущем в одной из первых сцен фильма точно подмечена Я. Бутовским [19] Бутовский Я. От романтической фотографии к поэтическому кино. С. 299.
, равно как и то, что этот разговор в опубликованном варианте 1935 года еще отсутствует. Герой не просто целеустремлен — но абсолютно целен. Открытая улыбка — важнейший знак цельности. Его антагонист, напротив, непременно враг смеха, воплощенная рефлексия — губительная и для него самого, и для окружающих. Этот ряд в кино середины 1930-х открывается «лирическим убийцей» Герасимом Платоновичем из «Крестьян» (1934), продолжается предателем Худяковым в «Аэрограде», подкулачником — отцом Степка в «Бежином луге» и скрытым кулацким сыном Кугановым-Зюбиным в «Партийном билете», а завершается, конечно же, двурушниками-троцкистами в «Великом гражданине» (1937–1938). Вне всякого сомнения, к тому же ряду принадлежит и вечно готовый к плачу и скорби царевич Алексей в фильме Петрова, именно в этом ключе успешно сыгранный Николаем Черкасовым.
Читать дальше