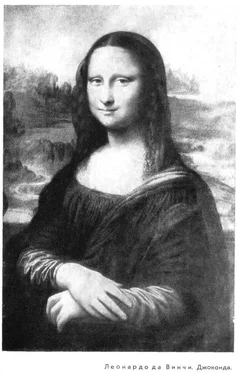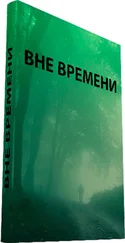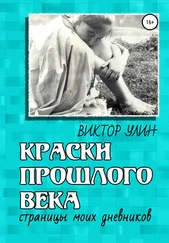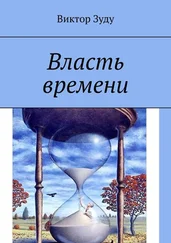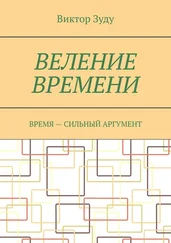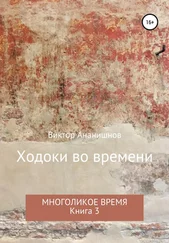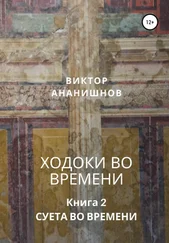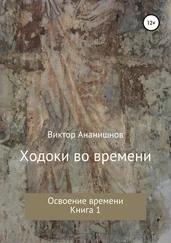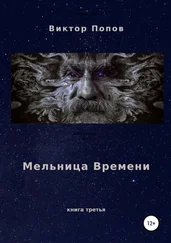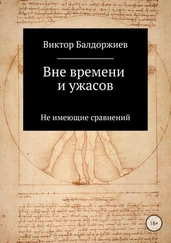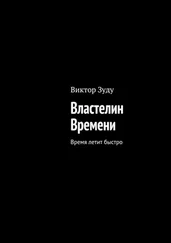Блажен, кто, удалясь от дел,
Подобно смертным первородным,
Орёт отеческий удел
Не откупным трудом — свободным..
Так воспевал возвращение к естественной жизни на природе Державин. И Боровиковский порывался уехать в свой родной Миргород: "и… остануся остаток дней жизни провождать вместе с… всеми родными и приятелями". Но так не случилось.
На портрете работы его ученика И. В. Бугаевского-Благодарного Боровиковский (которого другой его ученик, Венецианов, назвал "великим мужем", украсившим "Россию своими произведениями") — высоколобый, благообразный, будто бы спокойно наблюдает, но вдалеке что-то ищет и ищет его взгляд…

Он первый вынес имя русского в известность в Европе…
Александр Иванов
Орест Адамович Кипренский (1782 — 1836)окончил Академию художеств. Жил в России и в Италии. Знаменит своими портретами, занимался исторической живописью.
* * *
"Необыкновенный Орест" спешил жить пылко.
Лишь у мольберта, как учили древние греки, "спешил медленно", но преданно и исступленно — "почти помешался от работы". Был немного схож с замеченной однажды речкой, которая, "побеждая все препятствия, превращалась в водопады". Препятствия, правда, не давались, но водопадами низвергался. Его друг Томилов утверждал: "Искусство управляется чувством". Слова эти словно списаны с Кипренского. Его сила в смятении.
Он пришел в искусство человеком удалой, ликующей силы ("Автопортрет с кистями за ухом"). Легкая энергия пирующего вдохновения составляла его существо ("Автопортрет в розовом шейном платке"). Озаренный и героический, повелитель мгновения, он все может, каждая жилочка поет славу великому чуду творчества. Взволнованная шевелюра, энергичный поворот головы, быстрый превнимательнейший взгляд. Он знает — будет "писать что захочет и все будет хорошо".
А дымка задумчивости все же клубится в глазах, словно тень могучей страсти, чувства, повелевающего его кистью. Лишь однажды в портрете дворового человека А. Швальбе он позволил этому чувству вырваться, показаться.
Чем-то потрясенный, на что-то окончательно решившийся, властный человек надвигается на нас неотвратимо и слепо, вглядываясь только в самого себя. Стихийно-неистовую силу излучает застывшая лава лица. Швальбе несет посох как скипетр. Трагический портрет вулканических сил, пробудившихся в человеке, — итальянцы приписывали его кисти Рубенса или Рембрандта. Вулканические силы всегда жили и в самом Кипренском.
Восторгался, обожествлял Рафаэля, но не пригибался — в нем рождалась смелость, "которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности".
Увлекался чем-либо безоглядно, любил самозабвенно; "она одна, — писал о любимой, — соединяет в себе для моего сердца, для моего воображения все пространство времени и мира".
Дорожил талантом и не дорожил вещами. Даже с книгами и картинами расставался легко, не сожалея. Жил не среди вещей — среди друзей. "Люди, с кем живем, и чистая совесть составляют наш земной рай…"
Кипренский пишет портреты выдающегося переводчика "Илиады" и "Одиссеи" Н. И. Гнедича — "душу воспламененную, доступную всему высокому"; задумчиво внимающего и страдающего В. А. Жуковского; "отца славянской филологии" деятельного А. X. Востокова; поэта, художника и музыканта И. А. Крылова; Рылеева и Мицкевича; знаменитого архитектора Кваренги; актера Дмитревского, трагическую актрису Е. Семенову…
Поэт Батюшков писал:
…замечает
Кипренский лица их,
И киртию чудесной
С беспечностью прелестной
В один крылатый миг
Он пишет их портреты…
Батюшков замечал в Кипренском "ум и вкус нежный, образованный", Гёте находил его "хорошо мыслящим". Он знал историю живописи, философию, литературу. Среди почитаемых авторов — Сенека, Платон, Тассо, Пифагор, Гораций, Вольтер, Пушкин, Крылов, Лафонтен, Флавий…
"Работы мои все в различных манерах", — говорил Кипренский. Он пристально вглядывался в своего героя, совершенно нового русского героя, человека свободного духа, ожидающего социальных перемен и го-. тового к самопожертвованию во имя Отечества.
"Портрет Евгр. Давыдова" (который долго принимали за портрет Дениса Давыдова) называли образом новой эпохи. Ее предугадыванием. На фоне грозового неба романтический герой, поза вольная, "играющая", удалая. Абсолютная уверенность в себе — бывалом воине, сильном и благородном человеке. Но молодцеватость лихого гусара, будущего участника "битвы народов" под Лейпцигом, известного остряка и балагура, противоречит выражению его лица. Художник создает образы людей, провидящих грядущее сквозь завесу времени. Они живут порой беззаботно, но не умеют жить бездумно. Давыдов внезапно погружен в себя, безотчетное беспокойство владеет им.
Читать дальше