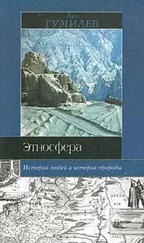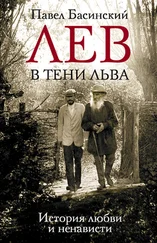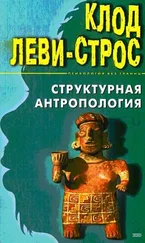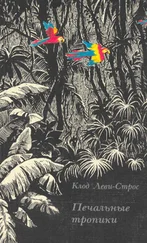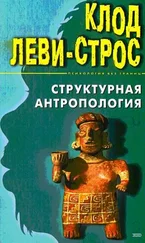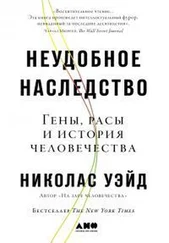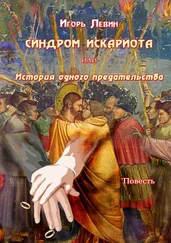6. История стационарная и история кумулятивная
Предшествующее рассмотрение американского примера должно побудить нас далее поразмыслить над различием между "стационарной историей" и "кумулятивной историей". Если мы предоставили Америке привилегию кумулятивной истории, то не потому лишь, что признаем ее авторство и вклад в определенные области, заимствованный нами от нее или же сходный с тем, что сделано нами? А какова будет наша позиция перед лицом цивилизации, которая стремилась бы развивать собственные ценности, при том что ни одна из них не составила бы интереса для цивилизации наблюдателя? Не был бы ли таковой расположен квалифицировать эту цивилизацию как стационарную? Иными словами, различение между двумя формами истории зависит от внутреннего характера, присущего самим культурам, к которым оно применяется, или же оно проистекает из этноцентрической перспективы (обычно мы там помещаемся, желая оценить чужую культуру)? Тогда мы сочли бы кумулятивной всякую культуру, которая развивалась бы в направлении, аналогичном нашему, иначе говоря, чье развитие было бы наделено для нас значением. Тогда как другие культуры казались бы нам неподвижными, необязательно оттого, что они таковы, но оттого, что их линия развития ничего не значит для нас, не соизмерима по языку с используемой нами системой референций.
О том, что случай именно таков, следует из рассмотрения, даже в обобщенном виде, условий, при которых мы применяем различение между двумя историями - не для того, чтобы охарактеризовать общества, отличающиеся от нашего, а внутри него самого. Это применение производится гораздо чаще, чем полагают. Пожилые люди вообще-то рассматривают как стационарную ту историю, что происходит в период их старости - в противоположность кумулятивной истории, засвидетельствованной их молодостью. Эпоха, в которую они уже не вовлечены активно, где они уже не играют роли, более не обладает смыслом: там ничто не происходит или же происходящее имеет в их глазах негативные черты, тогда как их внуки проживают этот же период со всей горячностью, позабытой старшими родственниками. Противники политического режима неохотно признают, что он эволюционирует; они отвергают его целиком, выбрасывая его за пределы истории как своего рода чудовищный антракт, лишь по окончании которого жизнь возобновится. Совсем иная концепция у сторонников режима, тем более, отметим, чем теснее и на более высоком уровне они участвуют в функционировании его аппарата. Историчность, а точнее говоря, событийность культуры или культурного процесса также являются функцией не их внутренних свойств, а ситуации, в которой мы оказываемся относительно них, числа и разнообразия наших интересов, замыкающихся на них.
Таким образом, противоположение культур прогрессивных и инертных кажется проистекающим в первую очередь из различия в местоположении. Для наблюдателя у микроскопа, "наладившего по глазам" на определенном расстоянии, отмериваемом от объектива, тела, размещенные по эту или по ту сторону, с разрывом хотя бы в несколько сотых миллиметра, покажутся смутными, неотчетливыми или даже совсем незаключаются не в том, чтобы продвигаться все в том же направлении дальше; они сопровождаются изменениями в ориентации, несколько наподобие шахматного коня, обычно имеющего в своем распорябудут видны: смотрится как бы сквозь них. Другое сравнение позволит обнаружить все ту же иллюзию: ее используют для объяснения элементарных понятий теории относительности. Чтобы показать, что размер и скорость перемещения тел являются не абсолютными ценностями, а функциями от позиции наблюдателя, то вспоминают, что для путешественника, сидящего у окна поезда, скорость и протяженность других поездов меняются сообразно с тем, следуют ли эти поезда в том же или противоположном направлении. И всякий человек, принадлежащий какой-либо культуре, настолько же плотно сообразуется с ней, как "идеальный путешественник" - со своим поездом. Ведь от самого нашего рождения среда проникает в нас - через тысячу сознательных и неосознаваемых ходов, посредством сложной референциальной системы, состоящей в ценностных суждениях, мотивациях, средоточиях интересов, включая сюда и умозрение, вменяемое нам образованием, об историческом становлении нашей цивилизации, без чего таковая будет немыслима или покажется вступающей в противоречие с реальными поведенческими актами. Мы прямо-таки передвигаемся вместе с этой референциальной системой, и внешние культурные реалии наблюдаемы только сквозь те деформации, которые она накладывает на них (если это не заходит настолько далеко, что мы не в состоянии что-либо постичь из происходящего).
Читать дальше