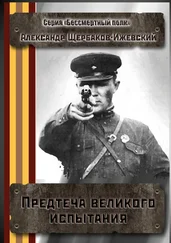Честно сказать, мне нравилось такое ее мировосприятие и такой образ жизни. Я не мог представить ее природную естественность в обществе манерных литмужчин и дам, каких я, например, видел, сопровождая ее на книжных выставках-ярмарках (так и тянуло приписать – «тщеславия»). Такими уж они мне виделись, прошу прощения за мой пристрастный, неисправимо провинциальный взгляд: горделивые, словно на котурнах, безнадежно утратившие простую непосредственность. Особенно удручающе было, когда подспудное фанфаронство проступало (впрочем, часто оно и не особенно скрывалось) через маску нарочитой, как у кота Матроскина, машинальной учтивости. Я мысленно иногда воображал свою писательницу похожей на одну (одного) из них, и мне становилось не по себе. Конечно, это относилось не ко всем сплошь. Но преимущественно…
Отсутствие «светскости» в моей жене однажды явственно открылось мне. Я уговорил ее пойти со мной на раут в честь какой-то годовщины «Эха Москвы». Тогда редакция еще приглашала на свои подобные сборы так называемых отцов-основателей. Мне, когда работал в «Огоньке», ставшем одним из ее учредителей, волею судеб выпало принимать участие в становлении этого феномена в период его эмбрионального развития.
Мероприятия «Эха» мне нравились отсутствием официозности, свободой взаимного общения всех со всеми. Я заведомо полагал, что Галина, такая озорная, шебутная в любой компании, будет там как рыба в воде. И, как только к ней подошли, узнав в гостье известную писательницу, две сотрудницы радиостанции, я ушел «в свободное плавание».
Когда через какое-то время опять прирулил к ней, то был озадачен. Внешне все было обыкновенно, и человек, не знавший Галину, считал бы, все идет как надо. Таким человеком и была женщина, которая с ней о чем-то оживленно говорила. Галя ей время от времени утвердительно кивала, повторяя какое-то из последних услышанных ею слов. Подойдя к ним, я понял, она не вникает в эти слова и вообще находится в состоянии чуть ли не сомнамбулизма. Что-то такое я уже однажды видел… И тут же вспомнил: Звенигород, «Елочка», увиденная в деревянную дырочку от выпавшего сучка фигурка нашей дочки с каким-то таким же безотчетным сонным поведением.
Я, отведя Галю от собеседницы, спросил:
– У тебя случайно нет температуры?
– Да нет.
– Домой хочешь?
– Хочу!..
…Помните ходячую мудрость: мужчина склонен находить в жене жену-маму или жену-дочь? В тот момент я впервые почувствовал в ней еще и жену-дочь.
Как в этом рассказе повелось, одни и те же события, обстоятельства читатель может увидеть не только с моей стороны, но и, если это достижимо, глазами Галины. Вот и сейчас – ее слово.
– Я попала в Москву с той волной, которой руководил наш славный ЦК. Ему ведь было дано право забрасывать невод в большие города для отлова крупных рыб. Москва почти наполовину состоит из этого улова. Есть рыбы очень крупные, такие, как Ельцин или Горбачев. Есть рыбешки поменьше. Журналисты – наособицу. А мой муж как раз и был переведен в Москву как собкор «Комсомолки», вслед за ним приехала сюда и я. Мне тогда было уже больше тридцати. Я была влюблена в Москву, меня можно было брать голыми руками, прошептав на ухо: «Неглинка» или «Волхонка». Наверное, это выглядело глуповато и наивно. Москва не приемлет сентиментальности. И в сущности, правильно. Хотя поняла я это позже. Москва нахлебалась лиха с десантом маргиналов, еще начиная с революции. Я попала в столицу на пике любви к Булгакову, во время расцвета чертовщины вокруг него. Из всего этого родился рассказ «Косточка авокадо», один из тех, которые нравятся самой. Он про любовь и нелюбовь Москвы и провинции друг к другу. Тем более опыт первый уже появился. Была омрачена радость получения квартиры. Гневом тех, кто ждал улучшения своей жилплощади несколько десятилетий подряд. Моя родная тетка, живущая в столице с тридцать девятого, недобро поджимала губы, когда мы въехали в останкинскую «комсомольскую деревню», в сущности, построенную для провинциалов. Кому было интересно, что все мы – пришельцы-десантники – где-то оставили хорошие квартиры, привычный уклад жизни, что свой приезд мы считали обоюдоважным для себя и для Москвы. Мы готовы были щедро отдавать, а нас считали нахалами и чужаками…
…До Москвы я работала журналистом в Челябинске, Ростове, Волгограде. Немножко хлебнула и московской журналистики. Но чего-то мне в работе столичного газетчика не хватало. Искренности, дружественности в отношениях с людьми, что ли? Или просто пришла моя пора идти и заняться тем, к чему неудержимо тянуло? Знакомые москвичи говорили: «Что значит – села писать? Вот уйдешь на пенсию, тогда и будешь писать». Мне кажется, что в Ростове мне бы так не сказали…
Читать дальше