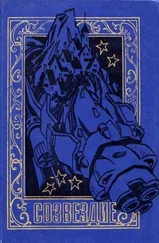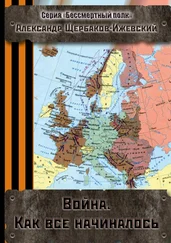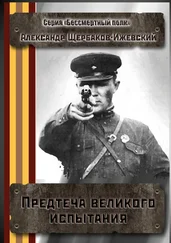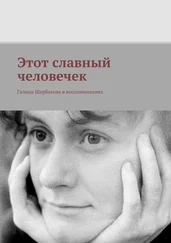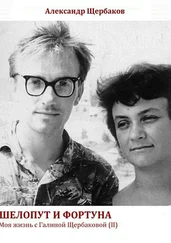С того дня у нас, точно у рыцарского ордена, стало все больше появляться чего-то «своего», только «нашего», неведомого другим. И читателю это стоит знать, чтобы в каких-то случаях понимать, о чем речь. Начнем с имен. «Санечка» – это вы уже знаете. Никто меня так до Гали не называл. «Лясенька». Много лет – нет, не так – много десятков лет я был убежден, что именно я придумал это слово. Была у меня маленькая сестренка, на семь лет младше меня, и было у нее, совсем крошечной, два платья, сотворенных мамой и бабушкой из каких-то маминых нарядов, – красное и голубое. Красное я называл платьем Роз-Мари, голубое же было платье «Сильва». В любом из них она была такая очаровашка, что просто требовалось называть ее как-то необыкновенно. Тогда у меня от умиления и родилось имечко: Лясенька, более ласкательно – Лясенька-Малясенька, официально – Ляся.
Как только Галя услышала эту историю, она потребовала, чтобы я впредь называл ее только Лясенькой. Или Лясенькой-Малясенькой. Разве я мог ей в этом отказать?..
И вот прошло после этого без малого тридцать лет, и у нас родилась внучка. Родители в стремлении отыскать для нее самое милое и не затасканное имя придумали – Милена. Но тут взбунтовались дядя новорожденной и его жена, оба доктора. Они сказали, что это слово – плохая «черная болезнь». На мое замечание, что болезнь – м е лена (я заглянул в словарь иностранных слов), а не М и лена, они резонно возразили: кто будет разбираться в фонетике, если уж такая мысль придет в голову. И тогда родители нашей внучки сказали: пусть будет Алиса. Чем очень обрадовали Галину. Она торжествующе сказала мне:
– А мы будем называть ее Лясенькой, Лясей!
Так оно и стало. А сегодня Алиса называет Лясей свою любимую кошку. А в Интернете есть куча Лясь: во-первых, кошек, во-вторых, интернетовских ников. И есть даже такая белорусская фамилия – Лясенька.
Но в то время и в той любви Лясенька была одна.
У нас был свой «пароль». Он звучал так: «В Крыму цветет миндаль».
В то время мы создали при редакции школу юнкоров. Я проводил первое занятие. Поскольку темой была «Информация в газете», я рассказывал разные истории и байки, связанные с этим основополагающим журналистским жанром. В том числе – про репортера, который в свое время, в девятнадцатом веке, ежегодно телеграфировал во все известные ему газеты новость: «Вчера в Крыму зацвел миндаль». И все газеты публиковали ее как вестник новой весны, а журналист якобы безбедно существовал на эти миндальные гонорары до следующей весны и до очередного расцвета орехового (на самом деле это слива) дерева. Вот из этого сюжета и возник пароль-девиз нашего тайного «ордена». Галя могла, к примеру, посреди летучки или иного производственного сборища громко сказать как бы ни с того ни с сего: «В Крыму цветет миндаль!» Обычно это означало – для меня – «Я тебя люблю». Но могло быть и другое: не пора ли под каким-нибудь благовидным предлогом смыться? В разных ситуациях эта фраза могла нести самое разнообразное содержание. Но мы всегда друг друга понимали. Поскольку я подозреваю, что едва ли не все имеют хотя бы небольшой опыт общения посредством такой любовной энигмологии, не буду задерживаться на разгадке этого – уж совсем обыкновенного – «чуда».
Надо ли говорить, что почти все такого рода идеи «нашего», неведомого посторонним мира вспыхивали в голове Галины? Но я-то, с моей природной нелюбовью ко всякой экзальтированности, принимал их! Так почти с самого начала наших отношений я стал – нет, еще не понимать, но замечать: одна судьба на двоих чревата переменами не только условий, но и… самого себя. И это показалось интересным. Я, конечно, не знал, не ведал, что такой интерес и сами перемены будут пребывать с нами всегда, до самого нашего конца.
Возникла тогда у нас и своя «главная песня», и симфоническая композиция. Но о них я пока умолчу, дабы избежать еще каких-то отступлений, и так их избыток.
Упомяну только об одном понятии, которое время от времени мелькает в нашей с Галей переписке. Это «Капля солнца». Так назывался рассказ все того же нашего друга Лени Доброхотова. Рассказ нам нравился, хотя (а может быть, именно потому) и имел привкус и Грина, и Папы Хэма. Там были слепой юноша и его красавица-сестра. Сестра хотела быть ближе к солнцу, чтобы хоть каплю его передать брату, и стала стюардессой. Она погибла.
Но главным было название – «Капля солнца»! Мы не знали, что это такое, где она, в чем она, эта капля. Но мы хотели ее, хотели видеть, раздобыть, отдать друг другу как что-то главное.
Читать дальше