В ноябре-декабре 1796 г., после воцарения Павла I, гатчинские офицеры были повышены в чинах. Аракчеев, получивший 2000 душ в Новгородской губернии и произведенный в генерал-майоры, вскоре оказался сразу на трех ответственных должностях — комендант Петербурга, командир лейб-гвардии Преображенского полка и генерал-квартирмейстер всей армии. Педантической аккуратности, давно ставшей главным принципом его служебного и бытового поведения, он теперь мог требовать с большинства подданных нового императора.
Пожалуй, именно на этом отрезке жизни Аракчеев приобретает репутацию безжалостного солдафона. Он сам присутствовал на экзекуциях и после осматривал спины наказываемых («и горе <���…>, ежели мало кровавых знаков!»), был изощрен в оскорблениях, поскольку, «отлично зная людей <���…> мастерски умел отыскивать и затрагивать чувствительнейшие струны человеческого сердца». Здесь мы имеем дело с жестокостью особого рода, оправданной в глазах Аракчеева делом государевой службы. И все же в марте 1798 г. эти качества обернулись против Аракчеева: оскорбленный им офицер покончил с собой, разразился скандал, и Павел I отставил его от всех должностей. Но летом этого года император расстался с многими лицами из своего ближайшего окружения: Ф. В. Ростопчин, С. И. Плещеев, Ф. Ф. Буксгевден, братья Куракины, Ю. А. Нелединский-Мелецкий один за другим попали в немилость; многолетняя фаворитка государя Е. И. Нелидова была заменена А. П. Лопухиной. Возле Павла I осталось слишком мало преданных людей, и в августе император вернул Аракчеева из Грузина, где тот коротал дни опалы. Ему был поручен надзор за всей артиллерией. Прошло чуть больше года, и Аракчеев вновь оказался в немилости, на этот раз из-за родственных чувств. В Арсенале во время дежурства его брата Андрея случилась кража; граф переложил вину на генерал-майора Вильде, был уличен в обмане и вместе с братом отставлен от службы. Он снова уехал в Грузино.
По преданию, за несколько дней до смерти Павел хотел вернуть Аракчеева, и тот будто бы даже выехал в Петербург, но был, по приказу П. А. Палена, одного из организаторов цареубийства, задержан у городской заставы. Хотя это не более чем слух, примечательно, что он так приковывал к себе внимание современников. Представьте: вечером 11 марта Аракчеев успевает в срок, и — император остается жив…
Собственно, Гатчина, как ни парадоксально это звучит, определила всю карьеру Аракчеева, в том числе и в следующее царствование. Хотя Александр I назначил его на официальные должности лишь в мае 1803 г., нет сомнения, что он помнил о преданном генерале и намеревался со временем приблизить его к себе. Вернувшись в Петербург, Аракчеев, по всей видимости, сумел проявить себя как виртуозный дипломат и психолог и ни словом, ни взглядом, ни интонацией не заступил за роковую, магическую черту, которой была обведена для Александра ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Таким образом, молодой император оказался в чрезвычайно комфортной и, что особенно важно, стабильной психологической ситуации: всё изменялось, один лишь Аракчеев оставался «верным гатчинским дядькой, стерегущим вечно юного царя от опасных влияний и соблазнов молодости». Никто иной не мог играть при Александре I эту роль хотя бы в силу чисто биографических обстоятельств.
А поскольку, несмотря на многочисленные перемены стилей поведения и всю загадочность и непредсказуемость своей натуры, император всегда оставался собой, то и Аракчееву была суждена долгая и беспримерно ровная — пусть и с некоторыми огорчениями — служба при нем, примерно с 1815 г. превратившаяся в управление всеми внутренними делами государства. Немаловажно и то, что Аракчеев оказался своего рода орудием императорской власти в крайне сложных взаимоотношениях монарха с дворянством. Стремясь обуздать недальновидное и эгоистичное дворянское своеволие (проявлявшееся на самые разные лады: от активного неприятия конституционных начал в первые годы царствования, всеобщей исступленной ненависти к Сперанскому, генеральского фрондерства, процветавшего в кругу А. П. Ермолова, А. А. Закревского, П. Д. Киселева, И. В. Сабанеева, — до замыслов цареубийства), Александр I мог опираться на Аракчеева как на вассала, который был предан лично сюзерену, с равной неприязнью относился ко всем придворным группировкам (это не значит, что он не участвовал в интригах) и чуждался вельможной позы. Разумеется, репутация последнего в ходе этой напряженной борьбы не могла не деформироваться совершенно определенным образом: нелестные характеристики типа «всей России притеснитель» приросли к Аракчееву намертво.
Читать дальше
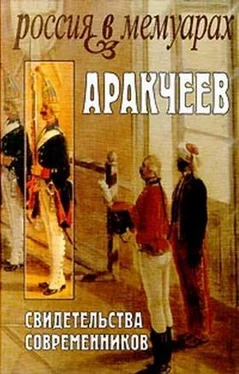







![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)



