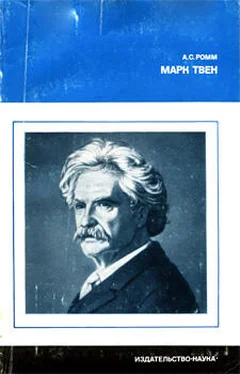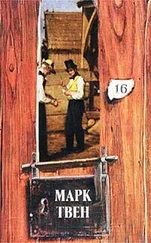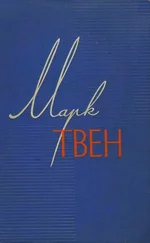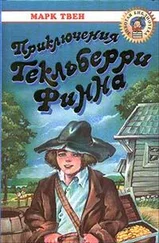Но на сей раз Твен далек от идеализации целостного сознания. Он вносит в свое повествование множество сатирических штрихов, приоткрывающих оборотную сторону средневековой «идиллии». Подобную отрезвляющую функцию выполняет, например, сценка, происходящая во время королевского пира: на голову спящего короля, усыпленного нудным рассказом Мерлина, взбирается крыса и, держа в лапках, кусочек сыра, грызет его «с простодушным бесстыдством, посыпая лицо короля крошками».
«Это была, — с чувством поясняет Твен, — мирная сцена, успокоительная для усталого взора и измученной души» (6, 328). Характер авторского комментария уточняет смысл юмористического эпизода, позволяя разглядеть его сатирический подтекст. «Умилительное» простодушие крысы в чем-то сродни патриархальному простодушию английских аристократов VI в., в детской наивности которых есть оттенок животной примитивности.
В формулу «простодушное бесстыдство» вмещается и стиль застольных бесед вельмож с его сочетанием высокопарности и предельной грубости и откровенности (все вещи здесь называются своими именами), и наивное любопытство придворных дам, разглядывающих голого Янки, и комментарии, которыми они сопровождают свои наблюдения («Королева… сказала, что никогда в жизни не видела таких ног, как у меня», 6, 333). Во всем этом много детского, но еще больше скотского. Английские аристократы представляют собой одновременно и «детей» и «скотов», и ударение чаще всего делается на втором из этих слагаемых. Почти буквальную расшифровку этой мысли дает остросатирический эпизод, изображающий романтический подвиг Янки, который в соответствии с господствующими обычаями освобождает знатных дам, якобы плененных злыми волшебниками. При ближайшем рассмотрении «аристократки» оказываются свиньями, а замок, в котором они обитают, — хлевом. Эпическая невозмутимость, с которой Янки рассказывает о хлопотах, доставленных ему маленькой графиней «с железным кольцом, продетым сквозь пятачок» (6, 436), устраняет разницу между титулованной особой и «хавроньей» и вдобавок лишает эту параллель всякого оттенка необычности. «Скотство» английских аристократов есть нечто большее, чем штрих их индивидуальной характеристики. Это — черта социально типичная и исторически обусловленная. Знатные обитатели Камелота, быть может, и не родились скотами. Но они стали таковыми благодаря условиям своего общественно-исторического бытия. Акцент, который падает на эту мысль, знаменателен с точки зрения эволюции Твена. Детерминистские начала его жизненной философии явно усиливаются. Автор «Янки» еще не изменил принципам просветительства и по-прежнему хочет верить в изначальную доброту человека. «Человек всегда останется человеком! — провозглашает герой Твена. — Века притеснения и гнета не могут лишить его человечности!» (6, 527).
Но на просветительскую антропоцентрическую концепцию уже заметным образом наслаиваются позитивистские влияния, воспринимавшиеся Твеном не только в историко-социальном (Ипполит Тэн), но и в литературном преломлении. Характерно в этом смысле, что одной из книг, которой зачитывался поздний Твен, была «Земля» Эмиля Золя. Роман Золя в его восприятии имел отношение столько же к Франции и французам, сколько и ко всему человечеству. «Разве не кажется невероятным, — пишет Твен в одном из своих писем, — что люди, о которых идет здесь речь, действительно существуют», а между тем «они могут быть обнаружены… скажем, в Массачусетсе или в другом американском штате» [87] Цит. по: Krause S. J. Op. cit., p. 255.
.
В «Янки» Твен уже находится в преддверии этой мысли. Взгляд Твена на природу как бы двоится. Его по-прежнему привлекает красота ее первозданных очагов, но он уже не питает к ним полного доверия. Оборотной стороной чудесного пейзажа является изобилие надоедливых насекомых, чье общество невыносимо для человека XIX в. Патриархальная целостность средневекового сознания также имеет свою изнанку. В новом романе Твена природа рассматривается не столько как источник нравственной чистоты, сколько как материал, в руках мастера способный принять любую форму. Средневекового варвара с одинаковой легкостью можно сделать и человеком и зверем, и трагедия средневековья заключается в том, что оно создает все условия для «озверения» людей. В рыцарях культивируются их животные инстинкты, народ превращен в инертную и покорную массу «баранов» и «кроликов». Низведенный до положения стада, он готов принять свое бесправие в качестве естественного состояния. В запуганных и униженных рабах убито чувство человеческого достоинства и, как предстоит убедиться Янки, воля к борьбе.
Читать дальше