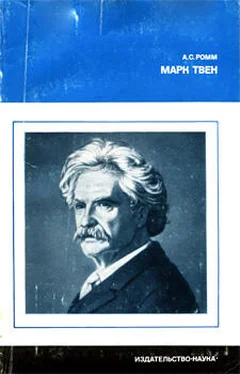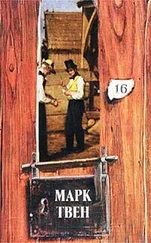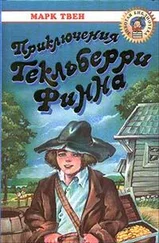Именно эта полная свобода от всех и всяческих предубеждений, составляющая, по мнению Твена, главную особенность «американизма» как национального склада мышления, и позволяет ему увидеть то, что он считает самым существом жизни Европы, а именно царящие в ней отношения сословной иерархии. Они, как полагает Твен и лежат в основе ее столетиями создававшейся культуры. За древним великолепием европейских городов писателю чудятся века рабства и угнетения. Отпечаток сервилизма и раболепия лежит на сокровищах европейского искусства.
Но при всем обилии этих обвинений по адресу европейского прошлого Твена интересует не вчерашний, а сегодняшний день жизни Европы.
Писатель убежден, что одряхлевший, неподвижный Старый Свет все еще живет По законам феодального прошлого. В восприятии молодого самоуверенного американца Европа — это вчерашний день человечества, своего рода гигантский склеп, наполненный отжившими тенями былого. В будущем Твен сформулирует эту мысль в прямой и откровенной форме. «Поездка за границу, — напишет он в одной из своих записных книжек, — вызывает такое же ощущение, как соприкосновение со смертью». Эту мысль можно найти и в «Простаках за границей». Путешествие на «Квакер-Сити» напоминает Твену «похоронную процессию с тою, однако, разницей, что здесь нет покойника». Но если покойники отсутствуют на американском пароходе, то Европа с лихвой возмещает недостаток этого необходимого атрибута погребальных церемоний. В Старом Свете «мертвецов» любят и чтут, они пользуются здесь усиленным и несколько чрезмерным вниманием. Разве не поучительно, что в Париже самым посещаемым местом является морг? Но нездоровое любопытство к смерти [37] Американский исследователь Линн совершенно неправомерно приписывает эти некрофильские увлечения самому Твену. В таком подходе к великому писателю можно видеть характерное для буржуазной критики стремление объявить Твена родоначальником «черного юмора».
свойственно не только парижанам. Оно составляет часть узаконенного «культа», исповедуемого и в других странах Старого Света. В итальянском монастыре капуцинов туристы видят целые «вавилоны» затейливо уложенных человеческих костей, образующих изящный, продуманный узор. Мудрено ли, что в конце концов пассажиры «Квакер-Сити» начинают возражать против «веселого общества мертвецов», и, когда их вниманию предлагается египетская мумия, они отказываются глядеть на этого трехтысячелетнего покойника. Если уж так необходимо рассматривать трупы, то пусть они по крайней мере будут свежими («Подсовываете нам каких-то подержанных покойников! Гром и молния! Если у вас есть хороший свежий труп, тащите его сюда! Не то, черт побери, мы разобьем вам башку!») (1,295).
Но Европа является «усыпальницей» и в переносном значении этого слова. Культ отжившего исповедуется здесь в самых различных формах.
Для этого «американского Адама» пока что существует лишь одно измерение исторического времени — современность, и полное воплощение ее духа он находит не в умирающей Европе, а в молодой практической республике — США. Созерцание «заката Европы» лишь укрепляет в нем ощущение жизнеспособности его родины. Поэтому он с таким насмешливым задором «переводит» полулегендарные события прошлого на язык американской газеты и рекламы. Отрывок афиши, якобы подобранный им среди развалин Колизея, повествующий в тоне дешевой газетной сенсационности о «всеобщей резне» и кровавых поединках гладиаторов, позволяет будущему автору «Янки из Коннектикута» осуществить деромантизацию поэтического прошлого Европы. Нет, он не очарован варварской романтикой древности и охотно променяет ее на прозаическую жизнь Америки XX в.
«Застывшей и неподвижной» культуре Старого Света писатель противопоставляет деятельную и энергичную американскую цивилизацию, архаическим памятникам европейской старины — достижения американской техники (пусть в США нет картин старых мастеров, но зато там есть мыло). При этом он отнюдь не идеализирует и своих спутников-американцев. Он видит их невежество, ограниченность, хвастливую самонадеянность и подчас довольно едко высмеивает этих самодовольных янки. Но хотя порядки, царящие в его собственной стране, нравятся ему далеко не во всем, в целом Твен убежден в преимуществах Нового Света. Автор «Простаков» пока что не понимает, что упреки, предъявляемые им Европе, могут быть переадресованы и его собственной стране. Он говорит здесь от имени всей Америки, не желая замечать, что и она не едина. Но как только взор Твена обращается «вовнутрь», к явлениям национальной жизни — становится ясно, что его голос — это голос не «всей», а народной Америки. Его связь с нею прежде всего проявляется в литературном «генезисе» его ранних произведений, ведущих свое происхождение от традиций западного фольклора. Язык фольклора был для Твена родным языком, естественной для него формой выражения чувств и мыслей. Стихия народного творчества окружала его с детства. Она жила и в фантастических рассказах негров-рабов, и в их протяжных, грустных песнях, и в анекдотах фронтирсменов Запада. Твен слышал их Ни и на палубах пароходов, плывущих по Миссисипи, и в землянках рудокопов, и в харчевнях и кабаках Невады.
Читать дальше