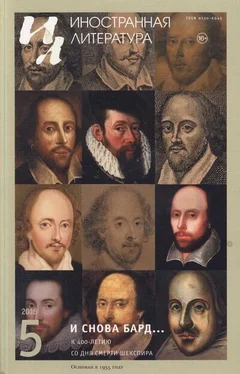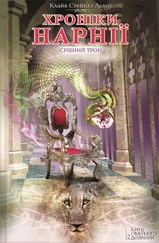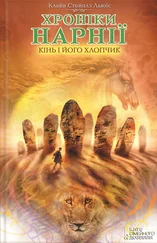Жизнь или игра?
Из всех версий по поводу личности г-на У. Х., отмечает ведущий британский шекспировед Стэнли Уэллс, эта — «лучшая на сегодняшний день». В том, что загадочный аноним оказался мало кому известным современником Шекспира, по мнению Уэллса, заключается «сильная сторона» гипотезы Кэвени: «То, что это человек незнатного происхождения, хорошо согласуется с обращением г-н У. Х. Оно всегда было камнем преткновения для любых попыток распознать в анониме аристократа», — цитирует Уэллса газета «Гардиан».
Остается задаться вопросом: что меняет убедительная в целом гипотеза Кэвени в наших представлениях о сонетах Шекспира? С одной стороны, если его правоту призна́ют другие ученые, то у любителей исторических загадок будет меньше оснований искать в шекспировском окружении аристократа с инициалами У. Х. К портрету Шекспира, и без того хорошо вписанному в контекст эпохи, добавится еще одна черточка, сближающая мир драматурга общедоступного театра с миром коммерческого книгоиздания.
С другой стороны, историки литературы по-прежнему не знают ответов на многие вопросы, связанные с сонетами Шекспира. Если стихотворения, опубликованные Торпом, не попали к нему непосредственно от автора, то можем ли мы утверждать, что этот сборник верно отражает авторскую волю? Что порядок следования сонетов в сборнике — авторский? Что вообще у автора был замысел располагать их в каком-то определенном порядке? Что нам известны все сонеты, написанные Шекспиром? И каков, в таком случае, статус шекспировских сонетов как литературных произведений? Что это — игра воображения, умевшего извлекать лирические и драматические эффекты из любой ситуации или отражение реальных событий из собственной жизни поэта? И почему сонеты Шекспира так разительно не похожи на сонеты его современников? Эти и другие вопросы можно задавать до бесконечности.
Похоже, чтобы разобраться в них, нам ничего не остается, как вновь обратиться к самому загадочному и в то же время самому надежному источнику сведений о сонетах Шекспира — их текстам, изданным Торпом в 1609 году.
Джонатан Бейт
Шекспир на рубеже тысячелетий
Заключительная глава книги Гений Шекспира
© Перевод Е. Доброхотова-Майкова
Томас Хэйвуд был успешным драматургом. Он участвовал в создании примерно двухсот двадцати пьес. Был чуть моложе Шекспира, тоже вышел из провинциального среднего класса, тоже совмещал профессию драматурга с игрой на сцене, также стал акционером большой труппы и заработал куда больше коллег, получавших плату сдельно. И, подобно Шекспиру, Хэйвуд перепробовал все жанры: комедии, трагедии, хроники. Он писал пьесы из английской истории, перелагал для театра Овидия и создал сценическую версию «Обесчещенной Лукреции» Шекспира. Лучшая (или, по крайней мере, самая знаменитая) пьеса Хэйвуда «Женщина, убитая добротой» сюжетно близка к «Отелло», однако ее действие развивается в Англии. Наряду с анонимной пьесой «Арден из Февершема», среди авторов которой, возможно, был и Шекспир, это очень ранний пример «домашней трагедии», то есть такой, где действуют обычные люди вроде нас с вами, а не короли и герцоги. Во многих пьесах Хэйвуда звучит необычное сочувствие женщинам и простым обывателям.
Так почему же его имя известно лишь специалистам, а Шекспира знают все? Почему ученика грамматической школы в Стратфорде-на-Эйвоне изучают и ставят постоянно, а уроженца Линколншира — почти никогда? Можем ли мы сколько-нибудь объективно утверждать: «Потому что Шекспир лучше Хэйвуда»? Каковы критерии такого вывода? Да, поэтический диапазон Шекспира куда шире, его метафоры куда изобретательнее, но когда пьесы Хэйвуда все-таки ставят (например, Королевская шекспировская труппа возродила его авантюрную драму «Красотка с Запада»), то видно, насколько они сценичны. Нельзя сказать, что он был плохим драматургом. История о том, как Шекспир стал «единственным в своем роде гением», а не просто «звездой в плеяде драматургов», куда сложнее, чем очередное подтверждение расхожей истины: дескать, посредственное искусство забывается, а великое остается на века.
Есть два условия, при которых произведениям культуры суждено долголетие; мы можем назвать их адаптивностью и доступностью. Термин «адаптивность» я употребляю в смысле, близком к дарвиновскому. Виды выживают благодаря способности приспосабливаться, эволюционировать за счет естественного отбора в меняющейся среде. Похожим образом можно анализировать историю культуры, как это сделал шекспировед Гэри Тейлор в его оставшейся недооцененной работе «Культурный отбор» [260] Gary Taylor. Cultural Selection. — 1996. Адаптивность Тэйлор называл «пересозданием» — reinventiveness. (Здесь и далее — прим. ред.).
. Как и в случае естественного отбора, жизнестойкость культурных артефактов определяется их способностью к адаптации в новой обстановке, в Новых культурных обстоятельствах. Некоторые произведения способны обращаться по-новому к каждому поколению, поскольку в них удачно воплощены архетипические конфликты или же вечные сюжеты обрели узнаваемую форму.
Читать дальше