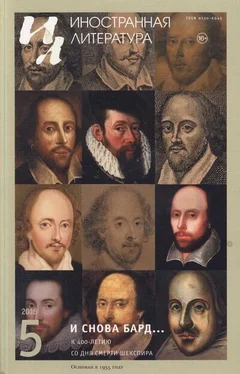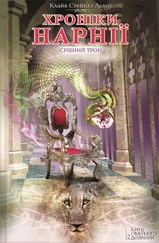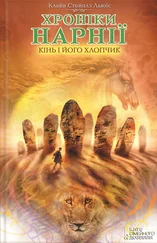Вглубь стихотворения — William Shakespeare. SONNET 27
Составление и вступительная статья Антона Нестерова
27-й сонет Шекспира — не из тех, что у всех на слуху, но постоянно цитируется и каждым помнится наизусть. Хотя вышло так, что в русской литературе он сыграл весьма своеобразную роль: из маршаковского его перевода выросли «Пилигримы» Бродского. И, может быть, Бродский не включал «Пилигримов» в составленные им самим сборники, слишком хорошо отдавая себе отчет в том, что все это стихотворение — по сути, «развертка» шекспировского эпиграфа: «Мои мечты и чувства в сотый раз / Идут к тебе дорогой пилигримов». Собственно, «Пилигримы» и выстроены, как иной из сонетов: на нагнетании повторов — и даже последний катрен этого стихотворения внутренне отделен от основного текста, подобно заключительному двустишию у Шекспира. Достаточно сравнить «Пилигримов» и, например, 66-й сонет Шекспира, чтобы увидеть, как Бродский строит свое стихотворение по «сонетному лекалу», но «разгоняет» его, увеличивая длину текста до 32 строк. У Шекспира:
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой…
У Бродского:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Бродский «выхватил» из шекспировского текста то самое неутоленное стремление паломника, которое, по сути, составляет сердцевину сонета. Но в «Пилигримах» своеобразно преломилось и присутствующее у Шекспира противопоставление внешней ночной тьмы и внутреннего зрения, способного видеть вопреки ей: «Увечны они, горбаты, / голодны, полуодеты, / глаза их полны заката, / сердца их полны рассвета…» Так, параллельное чтение двух текстов, Шекспира и Бродского, порождает нечто вроде эффекта интерференции, когда «волны» двух поэтов накладываются друг на друга, увеличивая за счет этого результирующую амплитуду.
И через это мы вдруг видим, что «неброский» 27 сонет — гораздо больше и интересней того, что мы склонны были различить в нем при беглом чтении. Заметим, уже первая строка сонета оказывается шкатулкой с двойным дном: в выражении «weary with toil» мерцает несколько смыслов. Дело в том, что «toil» может означать и «труды», «тяжелую работу», и «тенета», «ловушку», «силки» [241] Последнее значение употребляется реже, но мы встречаем его в «Гамлете», когда принц говорит «Why do you go about to recover the wind of me, as if you would drive me into a toil?» (акт III, сц. 2). В переводе М. Лозинского это передано как «Да, сударь мой, но ‘пока трава растет…’ — пословица слегка заплесневелая. [Возвращаются музыканты с флейтами.] А, флейты! Дайте-ка мне одну. — Отойдите в сторону. — Почему вы все стараетесь гнать меня по ветру, словно хотите загнать меня в сеть?». У Пастернака это переведено: «Что это вы все вьетесь вокруг, точно хотите загнать меня в какие-то сети?»
.
Тем самым первая строка 27-го сонета — не только об усталости от дневных трудов, но еще и о тщетности попыток вырваться из тенет любви, слишком близкой к отчаянью. Мотив этот достаточно глубоко проникает весь сонет. А мотив слепоты, тьмы и света несет в себе библейские ассоциации — они укоренены в истории об исцелении слепого, как она рассказана в Евангелии от Иоанна [242] «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения…» (Ин. 9:1–5).
.Тьма разверзается для слепого благодаря Божественному вмешательству. У Шекспира ночная тьма расступается, так как мысленному взору предстает тень возлюбленной. Эта тень уподобляется драгоценности — «jewel», сияющей из ночного мрака. Заметим, что в те времена именем Jewel порой называли Гемму — центральную, самую яркую звезду Северной Короны. Так как «подкова» этого созвездия хорошо различима на ночном небосводе, на Гемму, находящуюся не очень далеко от Полярной звезды, часто ориентировались путники, если Полярной по каким-либо причинам не было видно. Так, светлая тень возлюбленной превращается в путеводную звезду, помогающую ориентироваться во враждебном мраке, полном опасностей, а сам образ паломнического странствия оказывается не проходной метафорой, но — сердцевиной этого сонета, притом что текст балансирует на тонкой грани едва ли не буквального обожествления возлюбленной. Так, проговоренная в начале сонета попытка выйти за пределы любви, вырваться из любовной зависимости оборачивается глубочайшим приятием этой любви.
Читать дальше