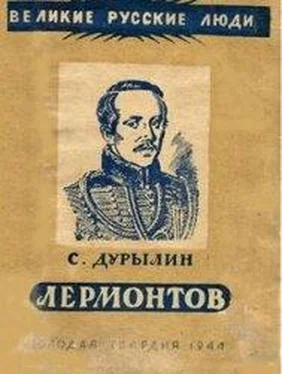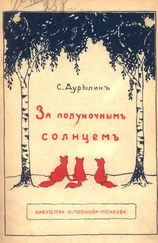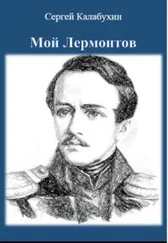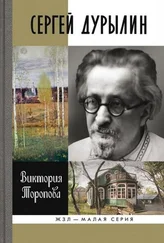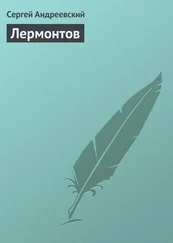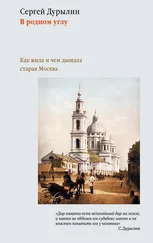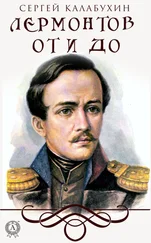«Бэла» и «Максим Максимыч», сам Печорин становится предметом наблюдений со стороны людей иного психологического склада и жизненного положения.
Все эти сложные строго реалистические приемы построения повествования о Печорине нужны были Лермонтову для того, чтобы дать в своем романе не частную автобиографию одного из людей 30-х годов, а обобщенную объективную историю современника.
И Лермонтову удалось это вполне.
В «Герое нашего времени» он остается таким же чудесным поэтом, как в своих лирических стихотворениях. На страницах его романа такие же вдохновенные картины природы, такие же поэтические образы, как в его поэмах. Но поэзия у Лермонтова всегда неразлучна с философской мыслью и жизненной правдой; в свой роман он вложил много «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет…»
«Я чувствую в душе моей силы необъятные», записывает Печорин в своем дневнике перед дуэлью. Печорин много и глубоко мыслит. И он знает, что мысль уже должна быть зародышем действия. «Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».
Но со всей волей своей, порывающейся к действию, со своим складом ума, который самую мысль рассматривает, как зерно действия, Печорин принужден жить в эпоху, когда мысль обречена была на безмолвие, а свободное действие творящей воли рассматривалось, как проявление непокорности властям. И Печорин переживает глубокую трагедию безвыходного одиночества, томясь в вынужденной бездейственности.
Чувствуя в себе «силы необъятные» и не зная им выхода в жизнь в достойном их действии, Лермонтов устами «героя» своего «времени» с ужасом спрашивает: «Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?»
Лермонтов не оправдывает Печорина, он судит и его. В уста Печорина он вкладывает упрек современникам в том, что они «равнодушно переходят от сомнения к сомнению», в том, что скитаются «по земле без убеждений и гордости», в том, что они «не знают наслаждения… в борьбе с людьми или с судьбою».
Скептический Печорин с горечью высказывает эти упреки, понимая, что они относятся и к нему самому.
Но ведь это те же обвинения, которые высказал Лермонтов в знаменитой «Думе» (1838), начинающейся признанием: «Печально я гляжу на наше поколенье». Из этих обвинений (и самообвинений) Печорина особенно важно одно: «Мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия». В «Думе» этому соответствует:
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы.
Под «великими жертвами для блага человечества» вряд ли возможно разуметь что-нибудь иное, кроме участия в политической и социальной борьбе за лучшее будущее своей страны и человечества; только при этом понимании приобретает полный смысл гневный укор, сделанный Лермонтовым своему поколению в «Думе», — укор в равнодушии к добру и злу, в рабстве перед властию, в малодушии перед опасностью.
«Дума» Лермонтова появилась в январской книжке «Отечественных записок»; она произвела сильнейшее впечатление на читателей. Белинский нашел «Думу» «чудно-поэтической, исполненной благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей». Под нею впервые — после безыменных «Песни о Калашникове» и «Казначейши» — подписано было имя Лермонтова. «Дума» явилась как бы лирическим прологом к «Герою нашего времени»; первая повесть из этого романа — «Бэла» — появилась в мартовской книжке того же журнала вместе со стихотворением «Поэт», в котором Лермонтов с такой прямотой и силой выразил свой взгляд на поэта, как на борца за правду и свободу.
Когда появилась «Бэла», стало ясно, что Печорин — это один из тех, к кому обратил поэт свою горькую «Думу»:
И ненавидим мы и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
Было ясно и то, что в России явился великий писатель-реалист, с небывалой зоркостью всматривающийся в душу своих современников и исключительной смелостью способный вскрывать недуги современности.
Читать дальше