Зала только чуть-чуть побольше, но бедна и почти пуста. Скверная лестница ведет в спальню, вид которой наполняет меня удивлением и негодованием. Как! В этой жалкой каморке, до потолка которой я достаю рукой в буквальном смысле слова, они могли держать в течении шести недель больного такой комплекции, как Гамбетта; и зимой, с наглухо затворенными окнами. Человека полного, страдающего одышкой и раненого!..
Он так и умер в этой комнате. Грошовые обои, темная кровать, два бюро, треснувшее зеркало между окном и шторой, дрянные занавески из красной шерстяной материи! Бедный студент жил бы не хуже этого.
Этот человек, столь много оплакиваемый, никогда не был любим! Окруженный разными деятелями , спекуляторами, эксплуататорами, он никогда не имел человека, который любил бы его ради него самого или по крайней мере ради его славы.
Но как можно было оставлять его хоть час в этой нездоровой и жаркой поморке! Можно ли сравнить неудобства часовой перевозки с опасностью пребывания без свежего воздуха в этой маленькой комнате. И про этого человека говорили, что он занят своими удобствами, склонен к роскоши! Это просто клевета!
Бастьен-Лепаж работает в ногах у самой постели. Все оставлено как тогда: смятая простыня на свернутом одеяле, заслоняющем труп, цветы на простынях. Судя по гравюрам, нельзя составить себе понятия о величине комнаты, в которой кровать занимает огромное место. Расстояние между кроватью и окном не позволяет отодвинуться для срисовки ее, так что на картине видна только та часть постели, которая ближе к изголовью. Картина Бастьена — сама правда. Голова, закинутая назад, в поворот en trois quarts, с выражением успокоения в небытии после страданий, ясности еще живой и в то же время уже неземной. Глядя на картину, видишь самую действительность. Тело, вытянутое, успокоенное, только-что покинутое жизнью, производит потрясающее впечатление. При виде его, мороз пробежит по коже; и колена дрожат и подгибаются.
Счастливый человек этот Бастьен-Лепаж! Я чувствую какое-то стеснение в его присутствии. Несмотря на наружность двадцатипятилетнего юноши, в нем есть то спокойствие, полное благосклонности и та простота, которая свойственна великим людям — Виктору Гюго, например. Я кончу тем, что буду находить его красивыми.; во всяком случае; он обладает в высшей степени тем безграничным обаянием, которое присуще людям, имеющим вес, силу, которые сознают это, без глупого самодовольства.
Я смотрю, как он работает, а он болтает с Диной, остальные сидят в соседней комнате.
На стене виден след пули, убившей Гамбетту; он нам показывает ее, и тишина этой комнаты, эти увядшие цветы, солнце, светящее в окно, все это вызывает слезы на, моих глазах. А он сидел спиной ко мне, погруженный в свою работу… Ну-с, и вот, чтобы не потерять выгодной стороны такой чувствительности, я порывисто подала ему руку и быстро выхожу, с лицом, омоченным слезами. Надеюсь, что он это заметил. Это глупо… Да, глупо признаться, что постоянно думаешь о производимом эффекте!
Четверг, 22 февраля. Голова маленького из моих двух мальчиков вполне закончена.
Я играю Шопена на рояле и Россини на арфе, совершенно одна в своей мастерской. Луна светит. Большое окно позволяет видеть ясно чудное синее небо. Я думаю о своих «Святых женах», и душа моя полна такого восторга от ясности, с которой эта картина мне представляется, что меня охватывает безумный страх — как бы кто-нибудь другой не сделал ее раньше меня… И это нарушает глубокое спокойствие вечера.
Но есть радости, кроме всего этого; я очень счастлива сегодня вечером; я только-что читала Гамлета по-английски и музыка Амбруаза Тома тихонько убаюкивает меня.
Есть драмы вечно волнующие, типы бессмертные… Офелия — бледная и белокурая — это хватает за сердце. Офелия!.. Желание самой пережить несчастную любовь пробуждается в глубине души. Нет — Офелия, цветы и смерть… Это прекрасно!
Должны же быть какие-нибудь формулы для таких грез, как сегодня, и все веяния поэзии, приходящие в голову, не должны были бы пропадать бесследно, но излиться в какое-нибудь творение. Быть может этот журнал будет?.. Нет, он слишком длинен. О, если бы Бог помог мне выполнить мою картину — большую настоящую. В этом году — это будет еще почти в роде этюда, вдохновленного Бастьеном? Боже мой, да; его живопись до такой степени передает природу, что чем ближе копируешь ее, тем больше походишь на него. Его головы живут; это не «прекрасная живопись», как у Каролуса Дюрана, это само тело, человеческая кожа; все у него живет, дышит. Тут нельзя говорить о технике: это просто сама, природа; и это дивно хорошо!
Читать дальше
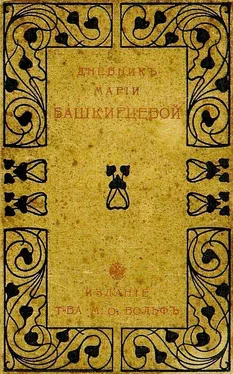
![Екатерина Дмитриева - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна - Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](/books/42052/ekaterina-dmitrieva-aleksandr-i-mariya-pavlovna-e-thumb.webp)



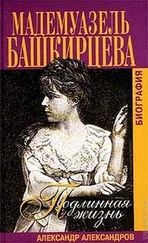





![Франциска Шедеви - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна - Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](/books/677158/franciska-shedevi-aleksandr-i-mariya-pavlovna-eliz-thumb.webp)
