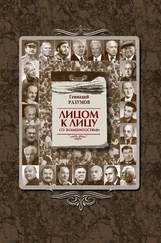1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 – Ой, какой ужас! – воскликнула Агния Петровна, когда вошла в комнату и увидела содеянное. В ее глазах был страх, тревога, отчаяние. Она нагнулась и стала собирать упавшие детали поврежденного репродуктора. При этом ее черное суконное платье туго натянулось, смело обозначив округлые задние формы и высоко оголив длинные жилистые икры ног. Кажется, это было мое первое эротическое наблюдение.
Агния Петровна не решилась сама проводить разбирательство по столь ответственному вопросу и привела к нам строгую неулыбчивую директрису, самоуверенную, неподкупную, прямую и твердую, как сама Правда. Наверно, она была незамужней большевичкой, вроде нашей Фиры Бейн, бабушкиной племянницы. Будучи в войну главврачом госпиталя она отказала своей родной тете в ампуле пенициллина. "Я не могу позволить себе взять лекарство у раненых красноармейцев", – заявила она без всяких сомнений в собственной правоте.
Директриса построила нас в линейку и нависла над нами, заложив руки за спину.
– Ну, так что же, – сказала она, пристально рассматривая каждого сверлящим взглядом, – кто это сделал?
Все молчали, опустив головы и сопя носами.
– Будем играть в молчанку? – повысив голос, продолжала она свое криминальное расследование. – А это что такое, чья эта вещь, кто принес ее в детский сад?
И она достала из-за спины главное вещественное доказательство преступления – мою рогатку. Я вздрогнул от неожиданности: как она попала ей в руки? Ведь рогатка была у Коки – Петуха, неужели он ее бросил? Может быть, от испуга?
Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Оказалось, что маленький поганец, будущий уголовник-пахан или, наоборот, главный судья республики, вовсе не бросил, а ПОДбросил рогатку – он быстро сообразил, что та может его подвести. И, конечно, Петух не побрезговал доносительством. Он поднял голову от пола и, глядя куда-то в сторону, тихо промямлил:
– Это Женька рогатку принес, – и ткнул пальцем в мою сторону.
Агния Петровна, всплеснув руками, удивленно посмотрела на меня и недоверчиво перевела взгляд на Коку. А директриса приказала мне грозным голосом:
– Ну-ка, выйди сюда.
И вот я стою перед ней с низко опущенной головой, бледный, жалкий, несчастный, а по моим впалым щекам текут крупные девчоночьи слезы. Всем своим маленьким, худеньким телом, сотрясающимся от беззвучных рыданий, я чувствую свою ничтожность, свою беззащитность. Я плачу не столько из-за этой откровенной кокиной подлости и не из-за обидного молчания других ребят, которые, зная правду, предательски молчат, и даже не из-за вопиющей, директрисиной несправедливости. Я плачу из-за своей собственной полной беспомощности и растерянности. Я себя ненавижу, я себя презираю за то, что не могу осмелиться открыть рот и что-то сказать в свое оправдание.
О, сколько раз потом, в моей последующей жизни, я вел себя точно также, не умея в нужный момент и в нужном месте собрать в кулак волю, позорно терялся и пасовал перед подлостью, грубостью, хамством! И как много я страдал от этого.
…Конечно, позже, когда в детский сад вызвали мою маму, все выяснилось и стало на свое место – справедливось восторжествовала.
Но что мне тогда уже было до этого?
Еще одно, пожалуй, не менее запоминающееся, но и намного более загадочное событие, связанное с черной тарелкой, произошло как-то утром, когда из нее громко на всю комнату сердито кричал строгий мужской голос. Он долго и непонятно что-то доказывал, требовал, утверждал. И Агния Петровна, обычно не очень-то прислушивавшаяся к радиоточке, на этот раз вела себя очень странно. Она сидела посреди комнаты на табуретке, ничего не делала и, стараясь не отвлекаться по сторонам, внимательно слушала то, что говорил дядя по радио.
Всех детей она посадила на пол вокруг себя и велела сидеть смирно. Но это мало кому удавалось. Радио никто не слушал, все ерзали, сопели, переговаривались, хныкали. Только одна девочка, посидев немного тихо и послушав, вдруг спросила громко:
– Про что это сказки рассказывают?
Агния Петровна почему-то вдруг очень испугалась и замахала на девочку рукой.
Вскоре поняв, что заставить нас слушать не удастся, она для уменьшения шума разрешила взять из шкафов игрушки.
Мне опять достался полусломанный вагончик, название которого я осваивал много времени. Сначала я говорил "тлавай", потом "травай" и, наконец, "транвай". Тут я посчитал, что совсем уж справился с трудным словом, но взрослые все равно каждый раз меня поправляли, и я никак не мог понять, что же я неправильно говорю.
Читать дальше