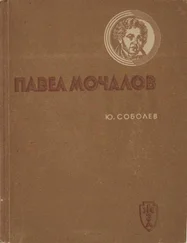Лев Мочалов
In medias res
В оформлении обложки использована работа Аси Мочаловой (1953–1979) «Тревожный вечер» (1969–1970). Акварель, белила.
Фото автора на обложке Ф. Лурье
© Мочалов Л., текст, 2013
© «Геликон Плюс», макет, 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Предлагаемая вниманию читателя книга составлена из текстов, возникших «по ходу жизни». Здесь – фиксация каких-то историй, воспоминаний, фрагменты дневникового типа, заметки из блокнотов и записных книжек. Эти материалы относятся к периоду с конца 1960-х и по 1990-е годы, с последующими коррективами и добавлениями. Точные даты даются в случаях необходимости, подсказываемой соображениями содержательного порядка, – когда они что-то проясняют или документируют.
Почему-то неотступно преследует строка Бориса Пастернака: «А я чинил карандаши, отшучиваясь неуклюже…» Почему – карандаши? Наверное, потому что «Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе у папы и попались котенку в лапы». Котенка не было. Но стол – был. Вернее, не стол, а козлы, с огромной чертежной доской и наколотым на нее листом ватмана, по которому шурша ходила закрепленная туго натянутыми нитями рейсшина; и постепенно на листе появлялись контуры плана или фасада; из них потом, может быть, где-то далеко-далеко получался дом, намеченный сперва только тонкими карандашными линиями… Оказывается, для дома сначала нужны были карандаши. Много карандашей! И затачивал их отец превосходно. Тогда – так мне было не заточить. А сейчас – пожалуй, сумею. Почти так… Чему-то научился… Но и сейчас карандаши – для меня – пахнут годами моего детства, выглядывающего в мир из тепла комнаты с окнами, то – синими, то – белыми, то снова – синими и зеленовато-серыми, почти черными за крестовинами переплетов; окнами – без занавесок, изменением цвета возвещающими о приходе и уходе дня…
И все-таки, почему именно карандаши, а, скажем, не шариковая ручка, на худой конец, если не пишущая машинка? Потому, что карандаш как бы впитывается в лист, в его чешуйчато-пористую ткань, уходит в него, исписываемый со сладким шорохом, укорачиваясь постепенно, как горящая свеча, а вместе с ним словно бы какая-то временная частица твоей жизни входит в бумагу, и ты становишься беглой вязью торопливых строчек.
Надо ли еще оправдываться? Уж простите авторскую прихоть. «А я чинил карандаши, отшучиваясь неуклюже» – признаюсь! – для замедления повествования. Для размышления…
Итак, приступим к ритуалу. Сначала нужно найти под листками разбросанной на столе бумаги бритву. Постараться подцепить ее ногтем. Она, конечно, увернется, – стрельнет, щелкнет о поверхность стола. Придется изменить маневр. И бритва, прижимаемая пальцами, прошелестит по дощатому столу, и рука ощутит ее прохладную легкость и опасную остроту. Пальцы сожмут лезвие, расплющиваясь на его почти неощутимой толщине, и тогда можно прикоснуться чуть скошенной и поблескивающей гранью к глянцевито-граненому телу карандаша. Сперва лезвие соскользнет с лакированной поверхности, и она покажется неприступной. Но пальцы сплющатся еще больше, и бритва погрузится в древесную, чуть-чуть маслянистую плоть карандаша. И словно последует предначертанию, записанному в самой текстуре дерева. Нажим – и отскочила первая и, как оказывается, слишком большая стружка. Летит на пол. Перестарался. Осторожнее!.. Рука старается идти совсем легко – и стружки получаются совсем тонкие. Обоняние ловит и впитывает вязкий запах древесины и немножко горьковатый – крошащегося графита. Графит похрустывает при заточке, и хруст ощущается деснами. Левая рука поворачивает карандаш вокруг его оси, стачиваемый конус делается всё правильнее, а графитный стержень обретает устремленность шпиля. Шпиль – черный. Он резко выделяется на белом поле бумаги. Можно вывести первое слово. Но – хруп! И стержень сломался! Слишком изысканно был заточен! Не выдержал того напора, который потребовался тебе. Пусть уж лучше графит будет покороче, да понадежнее. А затачивать можно почаще. Чтобы были паузы. Чтобы немножко оглядеться. Набрать воздуху… Снова графит тянется к листу. Прикасается к нему. Слово выведено. Начертано. И ты начал отделяться от себя. И тот, отделившийся, спрашивает, а скорее, допрашивает. Откуда-то – оттуда, из неизвестной – непредставимой – дали:
Читать дальше